Костёр 1980-01, страница 36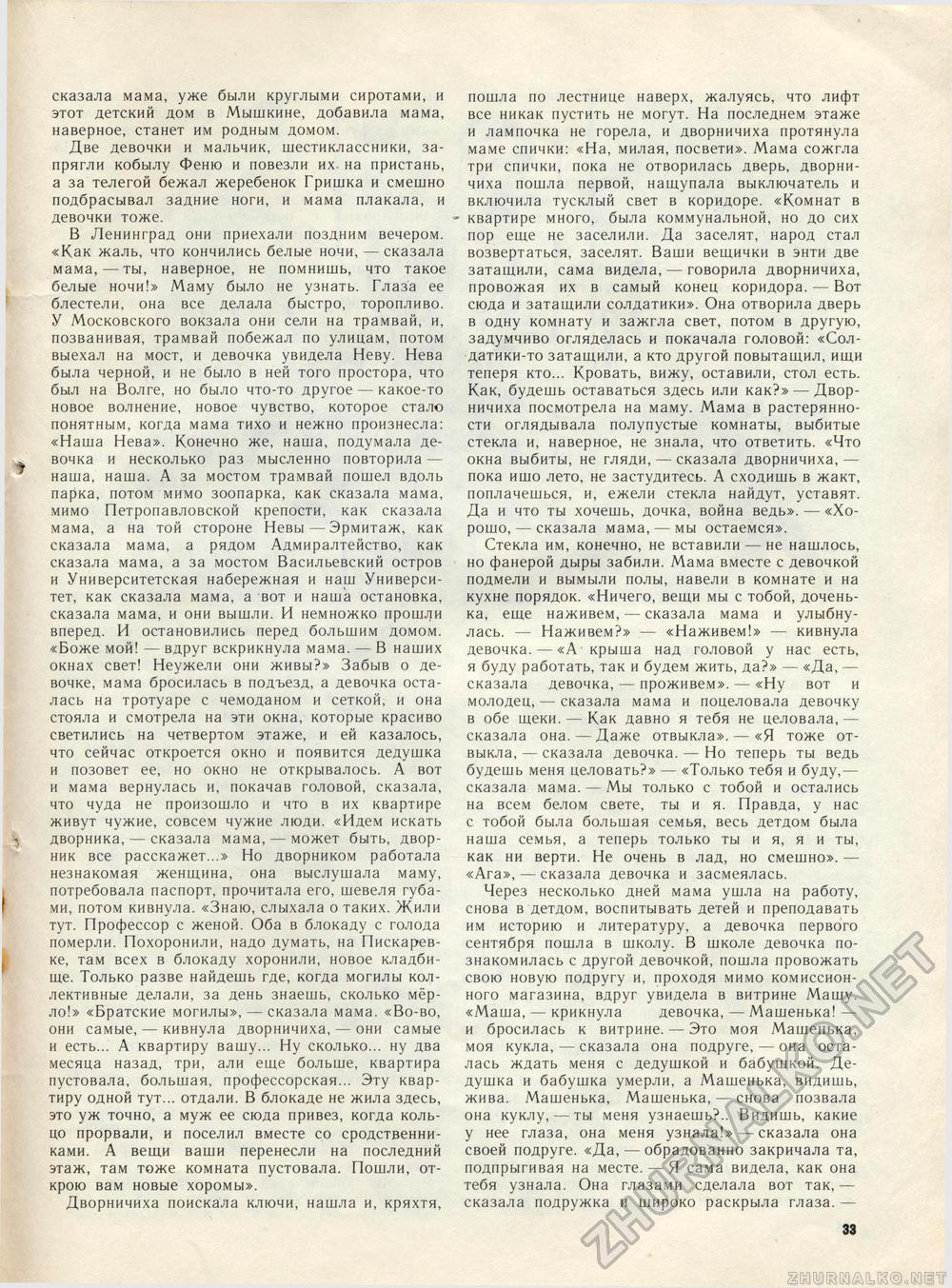
г сказала мама, уже были круглыми сиротами, и этот детский дом в Мышкине, добавила мама, наверное, станет им родным домом. Две девочки и мальчик, шестиклассники, запрягли кобылу Феню и повезли их. на пристань, а за телегой бежал жеребенок Гришка и смешно подбрасывал задние ноги, и мама плакала, и девочки тоже. В Ленинград они приехали поздним вечером. «Как жаль, что кончились белые ночи, — сказала мама,—ты, наверное, не помнишь, что такое белые ночи!» Маму было не узнать. Глаза ее блестели, она все делала быстро, торопливо. У Московского вокзала они сели на трамвай, и, позванивая, трамвай побежал по улицам, потом выехал на мост, и девочка увидела Неву. Нева была черной, и не было в ней того простора, что был на Волге, но было что-то другое — какое-то новое волнение, новое чувство, которое стало понятным, когда мама тихо и нежно произнесла: «Наша Нева». Конечно же, наша, подумала девочка и несколько раз мысленно повторила — наша, наша. А за мостом трамвай пошел вдоль парка, потом мимо зоопарка, как сказала мама, мимо Петропавловской крепости, как сказала мама, а на той стороне Невы — Эрмитаж, как сказала мама, а рядом Адмиралтейство, как сказала мама, а за мостом Васильевский остров и Университетская набережная и наш Университет, как сказала мама, а вот и наша остановка, сказала мама, и они вышли. И немножко прошли вперед. И остановились перед большим домом. «Боже мой! — вдруг вскрикнула мама. — В наших окнах свет! Неужели они живы?» Забыв о девочке, мама бросилась в подъезд, а девочка осталась на тротуаре с чемоданом и сеткой, и она стояла и смотрела на эти окна, которые красиво светились на четвертом этаже, и ей казалось, что сейчас откроется окно и появится дедушка и позовет ее, но окно не открывалось. А вот и мама вернулась и, покачав головой, сказала, что чуда не произошло и что в их квартире живут чужие, совсем чужие люди. «Идем искать дворника, — сказала мама, — может быть, дворник все расскажет...» Но дворником работала незнакомая женщина, она выслушала маму, потребовала паспорт, прочитала его, шевеля губами, потом кивнула. «Знаю, слыхала о таких. Жили тут. Профессор с женой. Оба в блокаду с голода померли. Похоронили, надо думать, на Пискарев-ке, там всех в блокаду хоронили, новое кладбище. Только разве найдешь где, когда могилы коллективные делали, за день знаешь, сколько мёрло!» «Братские могилы», — сказала мама. «Во-во, они самые, — кивнула дворничиха, — они самые и есть... А квартиру вашу... Ну сколько... ну два месяца назад, три, али еще больше, квартира пустовала, большая, профессорская... Эту квартиру одной тут... отдали. В блокаде не жила здесь, это уж точно, а муж ее сюда привез, когда кольцо прорвали, и поселил вместе со сродственниками. А вещи ваши перенесли на последний этаж, там тоже комната пустовала. Пошли, открою вам новые хоромы». Дворничиха поискала ключи, нашла и, кряхтя, пошла по лестнице наверх, жалуясь, что лифт все никак пустить не могут. На последнем этаже и лампочка не горела, и дворничиха протянула маме спички: «На, милая, посвети». Мама сожгла три спички, пока не отворилась дверь, дворничиха пошла первой, нащупала выключатель и включила тусклый свет в коридоре. «Комнат в квартире много, была коммунальной, но до сих пор еще не заселили. Да заселят, народ стал возвертаться, заселят. Ваши вещички в энти две затащили, сама видела, — говорила дворничиха, провожая их в самый конец коридора. — Вот сюда и затащили солдатики». Она отворила дверь в одну комнату и зажгла свет, потом в другую, задумчиво огляделась и покачала головой: «Солдатики-то затащили, а кто другой повытащил, ищи теперя кто... Кровать, вижу, оставили, стол есть. Как, будешь оставаться здесь или как?» — Дворничиха посмотрела на маму. Мама в растерянности оглядывала полупустые комнаты, выбитые стекла и, наверное, не знала, что ответить. «Что окна выбиты, не гляди, — сказала дворничиха,— пока ишо лето, не застудитесь. А сходишь в жакт, поплачешься, и, ежели стекла найдут, уставят. Да и что ты хочешь, дочка, война ведь». — «Хорошо,— сказала мама, — мы остаемся». Стекла им, конечно, не вставили — не нашлось, но фанерой дыры забили. Мама вместе с девочкой подмели и вымыли полы, навели в комнате и на кухне порядок. «Ничего, вещи мы с тобой, доченька, еще наживем, — сказала мама и улыбнулась. — Наживем?» — «Наживем!» — кивнула девочка. — «А- крыша над головой у нас есть, я буду работать, так и будем жить, да?» — «Да, — сказала девочка, — проживем». — «Ну вот и молодец, — сказала мама и поцеловала девочку в обе щеки. — Как давно я тебя не целовала, — сказала она.—Даже отвыкла». — «Я тоже отвыкла,— сказала девочка. — Но теперь ты ведь будешь меня целовать?» — «Только тебя и буду,— сказала мама. — Мы только с тобой и остались на всем белом свете, ты и я. Правда, у нас с тобой была большая семья, весь детдом была наша семья, а теперь только ты и я, я и ты, как ни верти. Не очень в лад, но смешно». — «Ага», — сказала девочка и засмеялась. Через несколько дней мама ушла на работу, снова в детдом, воспитывать детей и преподавать им историю и литературу, а девочка первого сентября пошла в школу. В школе девочка познакомилась с другой девочкой, пошла провожать свою новую подругу и, проходя мимо комиссионного магазина, вдруг увидела в витрине Машу. «Маша, — крикнула девочка, — Машенька! — и бросилась к витрине. — Это моя Машенька, моя кукла, — сказала она подруге, — она осталась ждать меня с дедушкой и бабушкой. Дедушка и бабушка умерли, а Машенька, видишь, жива. Машенька, Машенька, — снова позвала она куклу, — ты меня узнаешь?.. Видишь, какие у нее глаза, она меня узнала!» — сказала она своей подруге. «Да,—обрадованно закричала та, подпрыгивая на месте. — Я сама видела, как она тебя узнала. Она глазами сделала вот так,— сказала подружка и широко раскрыла глаза. — 33 |








