Костёр 1984-01, страница 25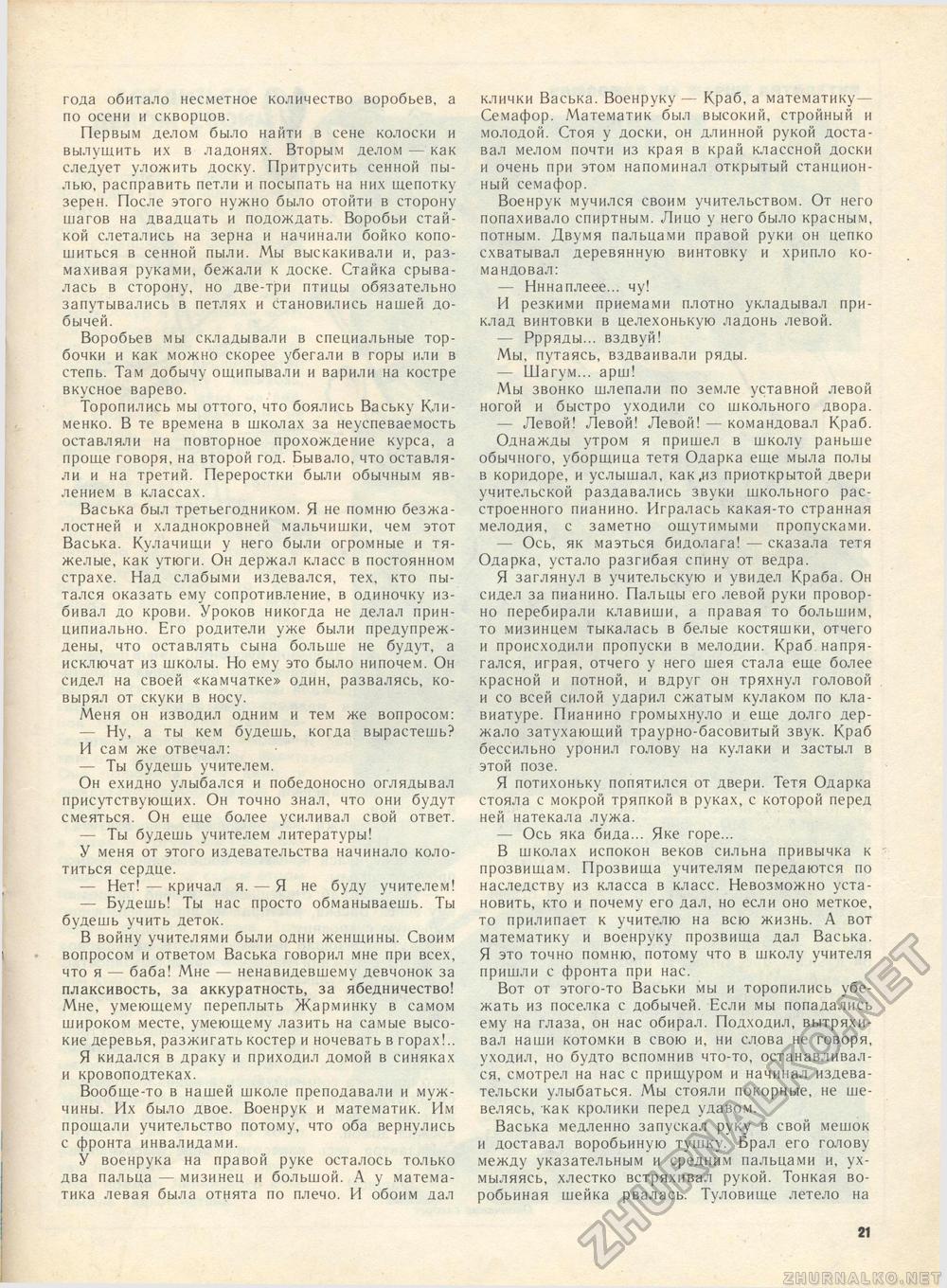
года обитало несметное количество воробьев, а клички Васька. Военруку—Краб, а математику по осени и скворцов. Первым делом было найти в сене колоски и вылущить их в ладонях. Вторым делом — как следует уложить доску. Притрусить сенной пылью, расправить петли и посыпать на них щепотку зерен. После этого нужно было отойти в сторону шагов на двадцать и подождать. Воробьи стайкой слетались на зерна и начинали бойко копошиться в сенной пыли. Мы выскакивали и, размахивая руками, бежали к доске. Стайка срывалась в сторону, но две-три птицы обязательно запутывались в петлях и становились нашей добычей. Воробьев мы складывали в специальные торбочки и как можно скорее убегали в горы или в степь. Там добычу ощипывали и варили на костре вкусное варево. Торопились мы оттого, что боялись Ваську Клименко. В те времена в школах за неуспеваемость оставляли на повторное прохождение курса, а проще говоря, на второй год. Бывало, что оставляли и на третий. Переростки были обычным явлением в классах. Васька был третьегодником. Я не помню безжалостней и хладнокровней мальчишки, чем этот Васька. Кулачищи у него были огромные и тяжелые, как утюги. Он держал класс в постоянном страхе. Над слабыми издевался, тех, кто пытался оказать ему сопротивление, в одиночку избивал до крови. Уроков никогда не делал принципиально. Его родители уже были предупреждены, что оставлять сына больше не будут, а исключат из школы. Но ему это было нипочем. Он сидел на своей «камчатке» один, развалясь, ковырял от скуки в носу. Меня он изводил одним и тем же вопросом: Ну, а ты кем будешь, когда вырастешь? И сам же отвечал: — Ты будешь учителем. Он ехидно улыбался и победоносно оглядывал присутствующих. Он точно знал, что они будут смеяться. Он еще более усиливал свой ответ. — Ты будешь учителем литературы! У меня от этого издевательства начинало колотиться сердце. — Нет! — кричал я. — Я не буду учителем! — Будешь! Ты нас просто обманываешь. Ты будешь учить деток. В войну учителями были одни женщины. Своим вопросом и ответом Васька говорил мне при всех, что я — баба! Мне — ненавидевшему девчонок за плаксивость, за аккуратность, за ябедничество! Мне, умеющему переплыть Жарминку в самом широком месте, умеющему лазить на самые высокие деревья, разжигать костер и ночевать в горах!.. Я кидался в драку и приходил домой в синяках и кровоподтеках. Вообще-то в нашей школе преподавали и мужчины. Их было двое. Военрук и математик. Им прощали учительство потому, что оба вернулись с фронта инвалидами. У военрука на правой руке осталось только два пальца — мизинец и большой. А у математика левая была отнята по плечо. И обоим дал Семафор. Математик был высокий, стройный и молодой. Стоя у доски, он длинной рукой доставал мелом почти из края в край классной доски и очень при этом напоминал открытый станционный семафор. Военрук мучился своим учительством. От него попахивало спиртным. Лицо у него было красным, потным. Двумя пальцами правой руки он цепко схватывал деревянную винтовку и хрипло командовал: — Нннаплеее... чу! И резкими приемами плотно укладывал приклад винтовки в целехонькую ладонь левой. Ррряды... вздвуй! Мы, путаясь, вздваивали ряды. Шагум... арш! Мы звонко шлепали по земле уставной левой ногой и быстро уходили со школьного двора. — Левой! Левой! Левой! — командовал Краб. Однажды утром я пришел в школу раньше обычного, уборщица тетя Одарка еще мыла полы в коридоре, и услышал, как,из приоткрытой двери учительской раздавались звуки школьного расстроенного пианино. Игралась какая-то странная мелодия, с заметно ощутимыми пропусками. — Ось, як маэться бидолага! — сказала тетя Одарка, устало разгибая спину от ведра. Я заглянул в учительскую и увидел Краба. Он сидел за пианино. Пальцы его левой руки проворно перебирали клавиши, а правая то большим, то мизинцем тыкалась в белые костяшки, отчего и происходили пропуски в мелодии. Краб.напрягался, играя, отчего у него шея стала еще более красной и потной, и вдруг он тряхнул головой и со всей силой ударил сжатым кулаком по клавиатуре. Пианино громыхнуло и еще долго держало затухающий траурно-басовитый звук. Краб бессильно уронил голову на кулаки и застыл в этой позе. Я потихоньку попятился от двери. Тетя Одарка стояла с мокрой тряпкой в руках, с которой перед ней натекала лужа. — Ось яка бида... Яке горе... В школах испокон веков сильна привычка к прозвищам. Прозвища учителям передаются по наследству из класса в класс. Невозможно установить, кто и почему его дал, но если оно меткое, то прилипает к учителю на всю жизнь. А вот математику и военруку прозвища дал Васька. Я это точно помню, потому что в школу учителя пришли с фронта при нас. Вот от этого-то Васьки мы и торопились убежать из поселка с добычей. Если мы попадались ему на глаза, он нас обирал. Подходил, вытряхивал наши котомки в свою и, ни слова не говоря, уходил, но будто вспомнив что-то, останавливался, смотрел на нас с прищуром и начинал издевательски улыбаться. Мы стояли покорные, не шевелясь, как кролики перед удавом. Васька медленно запускал руку в свой мешок и доставал воробьиную тушку. Брал его голову между указательным и средним пальцами и, ухмыляясь, хлестко встряхивал рукой. Тонкая воробьиная шейка рвалась. Туловище летело на 21 |








