Костёр 1984-01, страница 5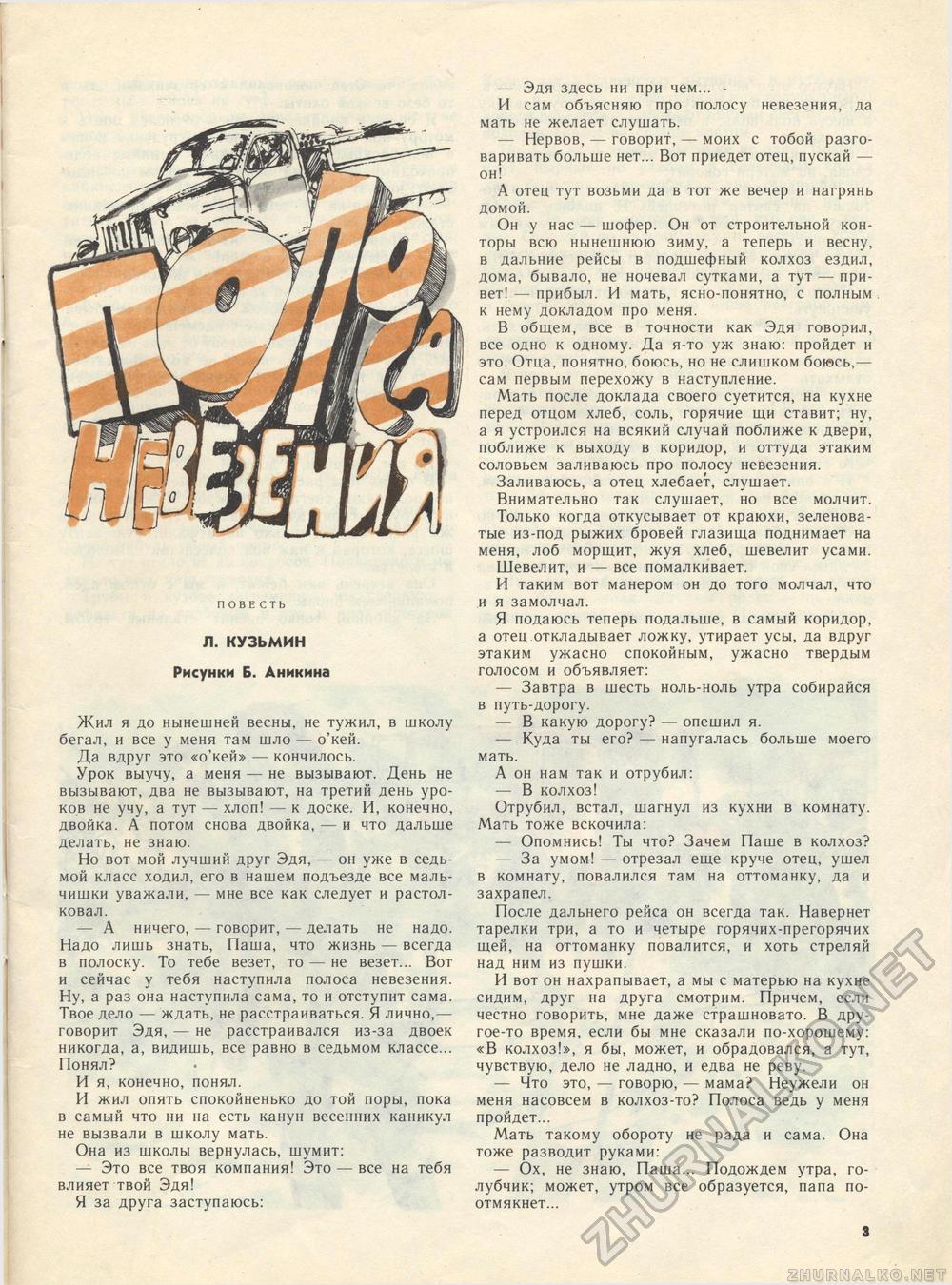
i ПОВЕСТЬ Л. КУЗЬМИН Рисунки Б. Аникина Жил я до нынешней весны, не тужил, в школу бегал, и все у меня там шло — о'кей. Да вдруг это «о'кей» — кончилось. Урок выучу, а меня — не вызывают. День не вызывают, два не вызывают, на третий день уроков не учу, а тут — хлоп! — к доске. И, конечно, двойка. А потом снова двойка, — и что дальше делать, не знаю. Но вот мой лучший друг Эдя, — он уже в седь мой класс ходил, его в нашем подъезде все мальчишки уважали, — мне все как следует и растолковал. — А ничего, — говорит, — делать не надо. Надо лишь знать, Паша, что жизнь — всегда в полоску. То тебе везет, то — не везет... Вот и сейчас у тебя наступила полоса невезения. Ну, а раз она наступила сама, то и отступит сама. Твое дело — ждать, не расстраиваться. Я лично,— говорит Эдя, — не расстраивался из-за двоек никогда, а, видишь, все равно в седьмом классе... Понял? И я, конечно, понял. И жил опять спокойненько до той поры, пока в самый что ни на есть канун весенних каникул не вызвали в школу мать. Она из школы вернулась, шумит: — Это все твоя компания! Это — все на тебя влияет твой Эдя! Я за друга заступаюсь: — Эдя здесь ни при чем... - И сам объясняю про полосу невезения, да мать не желает слушать. — Нервов, — говорит, — моих с тобой разговаривать больше нет... Вот приедет отец, пускай — он! А отец тут возьми да в тот же вечер и нагрянь домой. Он у нас — шофер. Он от строительной конторы всю нынешнюю зиму, а теперь и весну, в дальние рейсы в подшефный колхоз ездил, дома, бывало, не ночевал сутками, а тут — привет! — прибыл. И мать, ясно-понятно, с полным к нему докладом про меня. В общем, все в точности как Эдя говорил, все одно к одному. Да я-то уж знаю: пройдет и это. Отца, понятно, боюсь, но не слишком боюсь,— сам первым перехожу в наступление. Мать после доклада своего суетится, на кухне перед отцом хлеб, соль, горячие щи ставит; ну, а я устроился на всякий случай поближе к двери, поближе к выходу в коридор, и оттуда этаким соловьем заливаюсь про полосу невезения. Заливаюсь, а отец хлебает, слушает. Внимательно так слушает, но все молчит. Только когда откусывает от краюхи, зеленоватые из-под рыжих бровей глазища поднимает на меня, лоб морщит, жуя хлеб, шевелит усами. Шевелит, и — все помалкивает. И таким вот манером он до того молчал, что и я замолчал. Я подаюсь теперь подальше, в самый коридор, а отец откладывает ложку, утирает усы, да вдруг этаким ужасно спокойным, ужасно твердым голосом и объявляет: — Завтра в шесть ноль-ноль утра собирайся в путь-дорогу. — В какую дорогу? — опешил я. — Куда ты его? — напугалась больше моего мать. А он нам так и отрубил: — В колхоз! Отрубил, встал, шагнул из кухни в комнату. Мать тоже вскочила: — Опомнись! Ты что? Зачем Паше в колхоз? — За умом! — отрезал еще круче отец, ушел в комнату, повалился там на оттоманку, да и захрапел. После дальнего рейса он всегда так. Навернет тарелки три, а то и четыре горячих-прегорячих щей, на оттоманку повалится, и хоть стреляй над ним из пушки. И вот он нахрапывает, а мы с матерью на кухне сидим, друг на друга смотрим. Причем, если честно говорить, мне даже страшновато. В другое-то время, если бы мне сказали по-хорошему: «В колхоз!», я бы, может, и обрадовался, а тут, чувствую, дело не ладно, и едва не реву. — Что это, — говорю, — мама? Неужели он меня насовсем в колхоз-то? Полоса ведь у меня пройдет... Мать такому обороту не рада и сама. Она тоже разводит руками: — Ох, не знаю, Паша... Подождем утра, голубчик; может, утром все образуется, папа поотмякнет... 3 |








