Костёр 1985-01, страница 41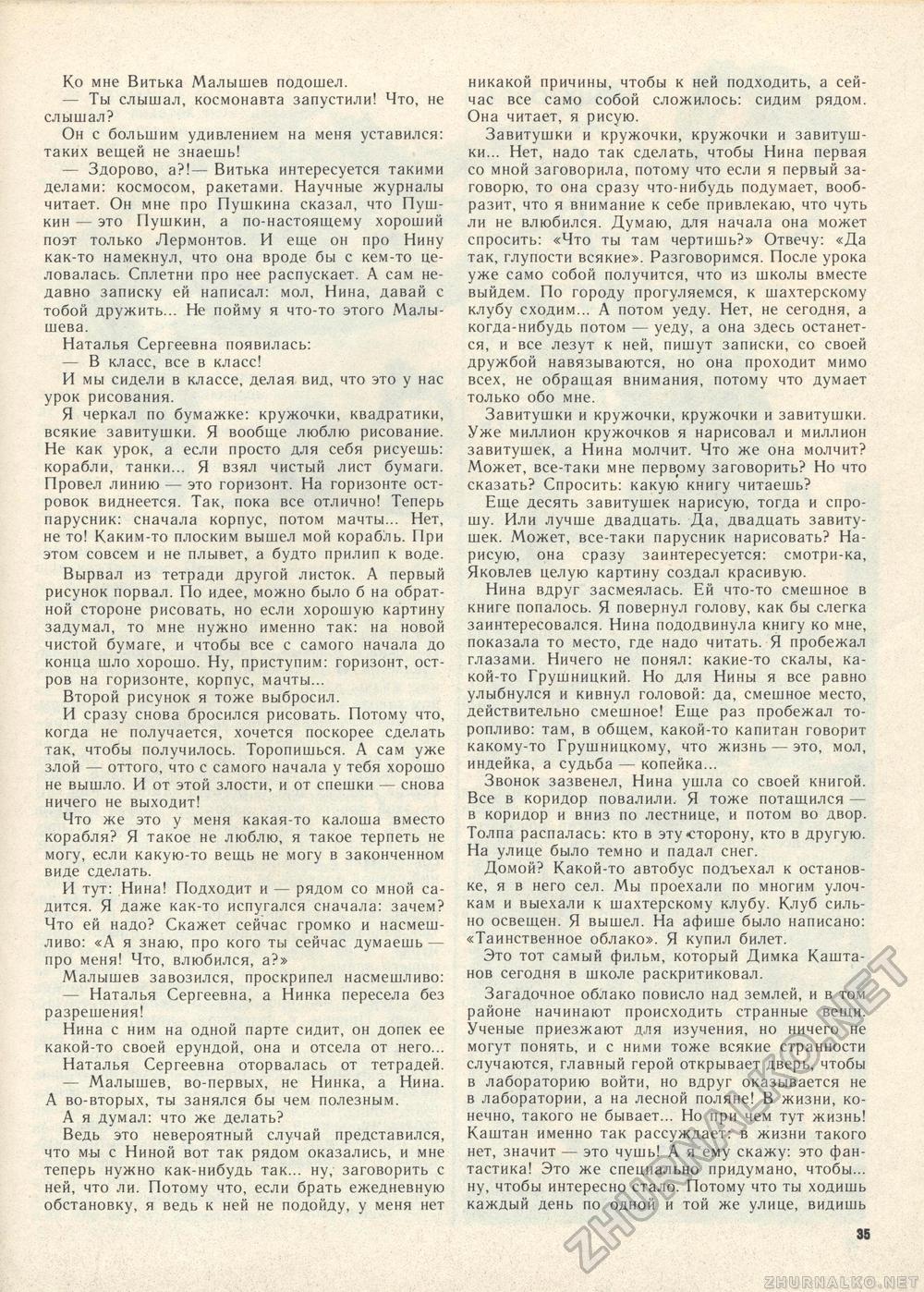
Ко мне Витька Малышев подошел. — Ты слышал, космонавта запустили! Что, не слышал? Он с большим удивлением на меня уставился: таких вещей не знаешь! — Здорово, а?!— Витька интересуется такими делами: космосом, ракетами. Научные журналы читает. Он мне про Пушкина сказал, что Пушкин — это Пушкин, а по-настоящему хороший поэт только Лермонтов. И еще он про Нину как-то намекнул, что она вроде бы с кем-то целовалась. Сплетни про нее распускает. А сам недавно записку ей написал: мол, Нина, давай с тобой дружить... Не пойму я что-то этого Малышева. Наталья Сергеевна появилась: — В класс, все в класс! И мы сидели в классе, делая вид, что это у нас урок рисования. Я черкал по бумажке: кружочки, квадратики, всякие завитушки. Я вообще люблю рисование. Не как урок, а если просто для себя рисуешь: корабли, танки... Я взял чистый лист бумаги. Провел линию — это горизонт. На горизонте островок виднеется. Так, пока все отлично! Теперь парусник: сначала корпус, потом мачты... Нет, не то! Каким-то плоским вышел мой корабль. При этом совсем и не плывет, а будто прилип к воде. Вырвал из тетради другой листок. А первый рисунок порвал. По идее, можно было б на обрат- О ной стороне рисовать, но если хорошую картину задумал, то мне нужно именно так: на новой чистой бумаге, и чтобы все с самого начала до конца шло хорошо. Ну, приступим: горизонт, остров на горизонте, корпус, мачты... Второй рисунок я тоже выбросил. И сразу снова бросился рисовать. Потому что, когда не получается, хочется поскорее сделать так, чтобы получилось. Торопишься. А сам уже злой — оттого, что с самого начала у тебя хорошо не вышло. И от этой злости, и от спешки — снова ничего не выходит! Что же это у меня какая-то калоша вместо корабля? Я такое не люблю, я такое терпеть не могу, если какую-то вещь не могу в законченном виде сделать. И тут: Нина! Подходит и — рядом со мной садится. Я даже как-то испугался сначала: зачем? Что ей надо? Скажет сейчас громко и насмешливо: «А я знаю, про кого ты сейчас думаешь — про меня! Что, влюбился, а?» Малышев завозился, проскрипел насмешливо: Наталья Сергеевна, а Нинка пересела без разрешения! Нина с ним на одной парте сидит, он допек ее какой-то своей ерундой, она и отсела от него... Наталья Сергеевна оторвалась от тетрадей. — Малышев, во-первых, не Нинка, а Нина. А во-вторых, ты занялся бы чем полезным. А я думал: что же делать? Ведь это невероятный случай представился, что мы с Ниной вот так рядом оказались, и мне теперь нужно как-нибудь так... ну, заговорить с ней, что ли. Потому что, если брать ежедневную обстановку, я ведь к ней не подойду, у меня нет никакой причины, чтобы к ней подходить, а сейчас все само собой сложилось: сидим рядом. Она читает, я рисую. Завитушки и кружочки, кружочки и завитушки... Нет, надо так сделать, чтобы Нина первая со мной заговорила, потому что если я первый заговорю, то она сразу что-нибудь подумает, вообразит, что я внимание к себе привлекаю, что чуть ли не влюбился. Думаю, для начала она может спросить: «Что ты там чертишь?» Отвечу: «Да так, глупости всякие». Разговоримся. После урока уже само собой получится, что из школы вместе выйдем. По городу прогуляемся, к шахтерскому клубу сходим... А потом уеду. Нет, не сегодня, а когда-нибудь потом — уеду, а она здесь останет ся, и все лезут к ней, пишут записки, со своей дружбой навязываются, но она проходит мимо всех, не обращая внимания, потому что думает только обо мне. Завитушки и кружочки, кружочки и завитушки. Уже миллион кружочков я нарисовал и миллион завитушек, а Нина молчит. Что же она молчит? Может, все-таки мне первому заговорить? Но что сказать? Спросить: какую книгу читаешь? Еще десять завитушек нарисую, тогда и спрошу. Или лучше двадцать. Да, двадцать завитушек. Может, все-таки парусник нарисовать? Нарисую, она сразу заинтересуется: смотри-ка, Яковлев целую картину создал красивую. Нина вдруг засмеялась. Ей что-то смешное в книге попалось. Я повернул голову, как бы слегка заинтересовался. Нина пододвинула книгу ко мне, показала то место, где надо читать. Я пробежал глазами. Ничего не понял: какие-то скалы, какой-то Грушницкий. Но для Нины я все равно улыбнулся и кивнул головой: да, смешное место, действительно смешное! Еще раз пробежал торопливо: там, в общем, какой-то капитан говорит какому-то Грушницкому, что жизнь — это, мол, индейка, а судьба — копейка... Звонок зазвенел, Нина ушла со своей книгой. Все в коридор повалили, Я тоже потащился — в коридор и вниз по лестнице, и потом во двор. Толпа распалась: кто в эту сторону, кто в другую. На улице было темно и падал снег. Домой? Какой-то автобус подъехал к остановке, я в него сел. Мы проехали по многим улочкам и выехали к шахтерскому клубу. Клуб сильно освещен. Я вышел. На афише было написано: «Таинственное облако». Я купил билет. Это тот самый фильм, который Димка Каштанов сегодня в школе раскритиковал. Загадочное облако повисло над землей, и в том районе начинают происходить странные вещи. Ученые приезжают для изучения, но ничего не могут понять, и с ними тоже всякие странности случаются, главный герой открывает дверь, чтобы в лабораторию войти, но вдруг оказывается не в лаборатории, а на лесной поляне! В жизни, конечно, такого не бывает... Но при чем тут жизнь! Каштан именно так рассуждает: в жизни такого нет, значит — это чушь! А я ему скажу: это фантастика! Это же специально придумано, чтобы... ну, чтобы интересно стало. Потому что ты ходишь каждый день по одной и той же улице, видишь 35 |








