Костёр 1986-03, страница 16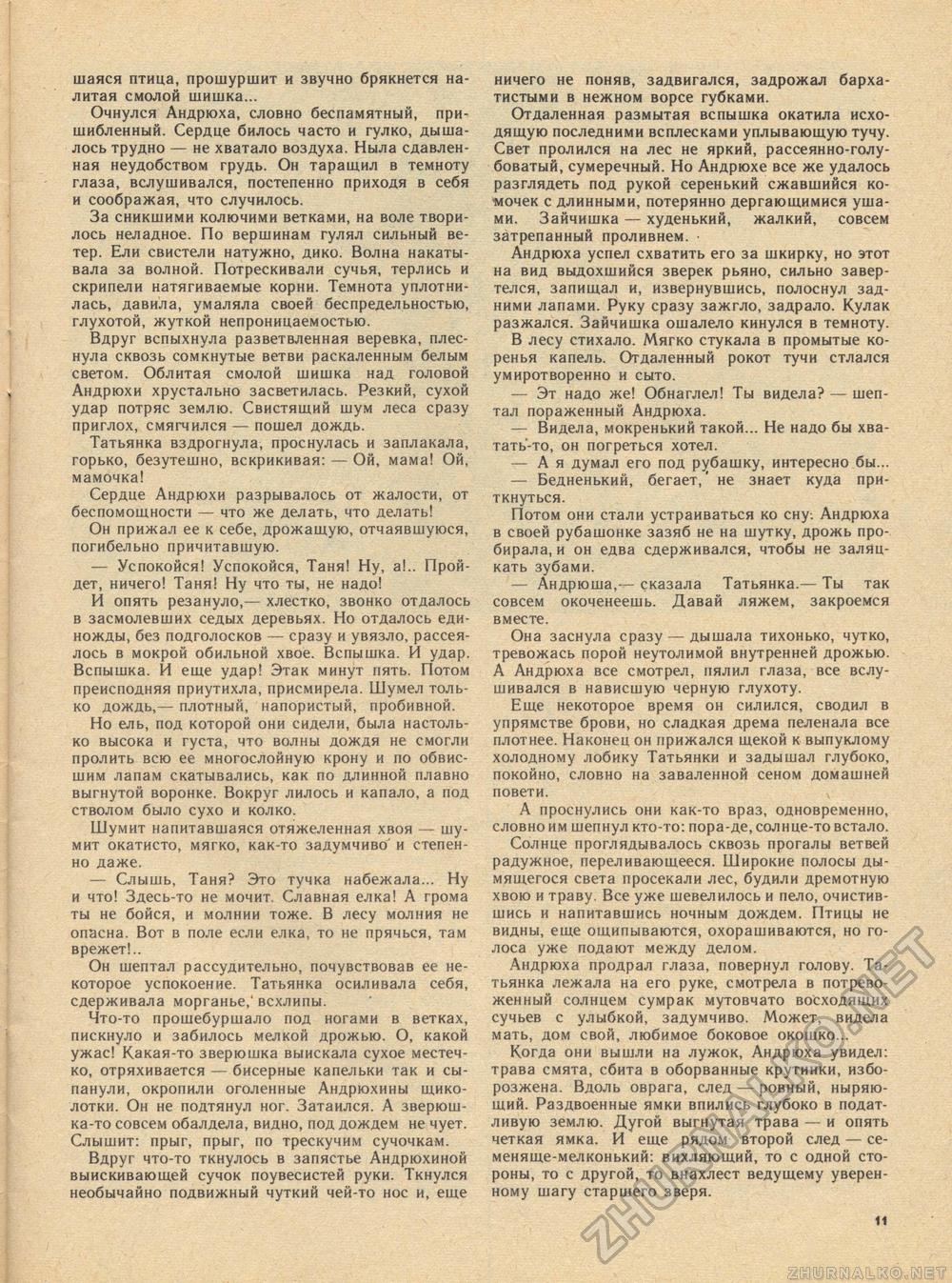
шаяся птица, прошуршит и звучно брякнется налитая смолой шишка... Очнулся Андрюха, словно беспамятный, пришибленный. Сердце билось часто и гулко, дышалось трудно — не хватало воздуха. Ныла сдавленная неудобством грудь. Он таращил в темноту глаза, вслушивался, постепенно приходя в себя и соображая, что случилось. За сникшими колючими ветками, на воле творилось неладное. По вершинам гулял сильный ветер. Ели свистели натужно, дико. Волна накатывала за волной. Потрескивали сучья, терлись и скрипели натягиваемые корни. Темнота уплотнилась, давила, умаляла своей беспредельностью, глухотой, жуткой непроницаемостью. Вдруг вспыхнула разветвленная веревка, плеснула сквозь сомкнутые ветви раскаленным белым светом. Облитая смолой шишка над головой Андрюхи хрустально засветилась. Резкий, сухой удар потряс землю. Свистящий шум леса сразу приглох, смягчился — пошел дождь. Татьянка вздрогнула, проснулась и заплакала, горько, безутешно, вскрикивая: — Ой, мама! Ой, мамочка! Сердце Андрюхи разрывалось от жалости, от беспомощности — что же делать, что делать! Он прижал ее к себе, дрожащую, отчаявшуюся, погибельно причитавшую. — Успокойся! Успокойся, Таня! Ну, а!.. Прой дет, ничего! Таня! Ну что ты, не надо! И опять резануло,— хлестко, звонко отдалось в засмолевших седых деревьях. Но отдалось единожды, без подголосков — сразу и увязло, рассеялось в мокрой обильной хвое. Вспышка. И удар. Вспышка. И еще удар! Этак минут пять. Потом преисподняя приутихла, присмирела. Шумел только дождь,— плотный, напористый, пробивной. Но ель, под которой они сидели, была настолько высока и густа, что волны дождя не смогли пролить всю ее многослойную крону и по обвисшим лапам скатывались, как по длинной плавно выгнутой воронке. Вокруг лилось и капало, а под стволом было сухо и колко. Шумит напитавшаяся отяжеленная хвоя — шумит окатисто, мягко, как-то задумчиво и степенно даже. — Слышь, Таня? Это тучка набежала... Ну и что! Здесь-то не мочит. Славная елка! А грома ты не бойся, и молнии тоже. В лесу молния не опасна. Вот в поле если елка, то не прячься, там врежет!.. Он шептал рассудительно, почувствовав ее некоторое успокоение. Татьянка осиливала себя, сдерживала морганье,1 всхлипы. Что-то прошебуршало под ногами в ветках, пискнуло и забилось мелкой дрожью. О, какой ужас! Какая-то зверюшка выискала сухое местечко, отряхивается — бисерные капельки так и сыпанули, окропили оголенные Андрюхины щиколотки. Он не подтянул ног. Затаился. А зверюшка-то совсем обалдела, видно, под дождем не чует. Слышит: прыг, прыг, по трескучим сучочкам. Вдруг что-то ткнулось в запястье Андрюхиной выискивающей сучок поувесистей руки. Ткнулся необычайно подвижный чуткий чей-то нос и, еще ничего не поняв, задвигался, задрожал бархатистыми в нежном ворсе губками. Отдаленная размытая вспышка окатила исходящую последними всплесками уплывающую тучу. Свет пролился на лес не яркий, рассеянно-голубоватый, сумеречный. Но Андрюхе все же удалось разглядеть под рукой серенький сжавшийся комочек с длинными, потерянно дергающимися ушами. Зайчишка — худенький, жалкий, совсем затрепанный проливнем. • Андрюха успел схватить его за шкирку, но этот на вид выдохшийся зверек рьяно, сильно завертелся, запищал и, извернувшись, полоснул задними лапами. Руку сразу зажгло, задрало. Кулак разжался. Зайчишка ошалело кинулся в темноту. В лесу стихало. Мягко стукала в промытые коренья капель. Отдаленный рокот тучи стлался умиротворенно и сыто. — Эт надо же! Обнаглел! Ты видела? — шептал пораженный Андрюха. — Видела, мокренький такой... Не надо бы хватать-то, он погреться хотел. — А я думал его под рубашку, интересно бы... — Бедненький, бегает,' не знает куда приткнуться. Потом они стали устраиваться ко сну: Андрюха в своей рубашонке зазяб не на шутку, дрожь пробирала, и он едва сдерживался, чтобы не заляц-кать зубами. — Андрюша,— сказала Татьянка.— Ты так совсем окоченеешь. Давай ляжем, закроемся вместе. Она заснула сразу — дышала тихонько, чутко, тревожась порой неутолимой внутренней дрожью. А Андрюха все смотрел, пялил глаза, все вслушивался в нависшую черную глухоту. Еще некоторое время он силился, сводил в упрямстве брови, но сладкая дрема пеленала все плотнее. Наконец он прижался щекой к выпуклому холодному лобику Татьянки и задышал глубоко, покойно, словно на заваленной сеном домашней повети. А проснулись они как-то враз, одновременно, словно им шепнул кто-то: пора-де, солнце-то встало. Солнце проглядывалось сквозь прогалы ветвей радужное, переливающееся. Широкие полосы дымящегося света просекали лес, будили дремотную хвою и траву. Все уже шевелилось и пело, очистившись и напитавшись ночным дождем. Птицы не видны, еще ощипываются, охорашиваются, но голоса уже подают между делом. Андрюха продрал глаза, повернул голову. Татьянка лежала на его руке, смотрела в потревоженный солнцем сумрак мутовчато восходящих сучьев с улыбкой, задумчиво. Может, видела мать, дом свой, любимое боковое окошко... Когда они вышли на лужок, Андрюха увидел: трава смята, сбита в оборванные крутинки, избо-розжена. Вдоль оврага, след — ровный, ныряющий. Раздвоенные ямки впились глубоко в податливую землю. Дугой выгнутая трава — и опять четкая ямка. И еще рядом второй след — се-меняще-мелконький: вихляющий, то с одной стороны, то с другой, то внахлест ведущему уверенному шагу старшего зверя. 11 |








