Костёр 1989-10, страница 30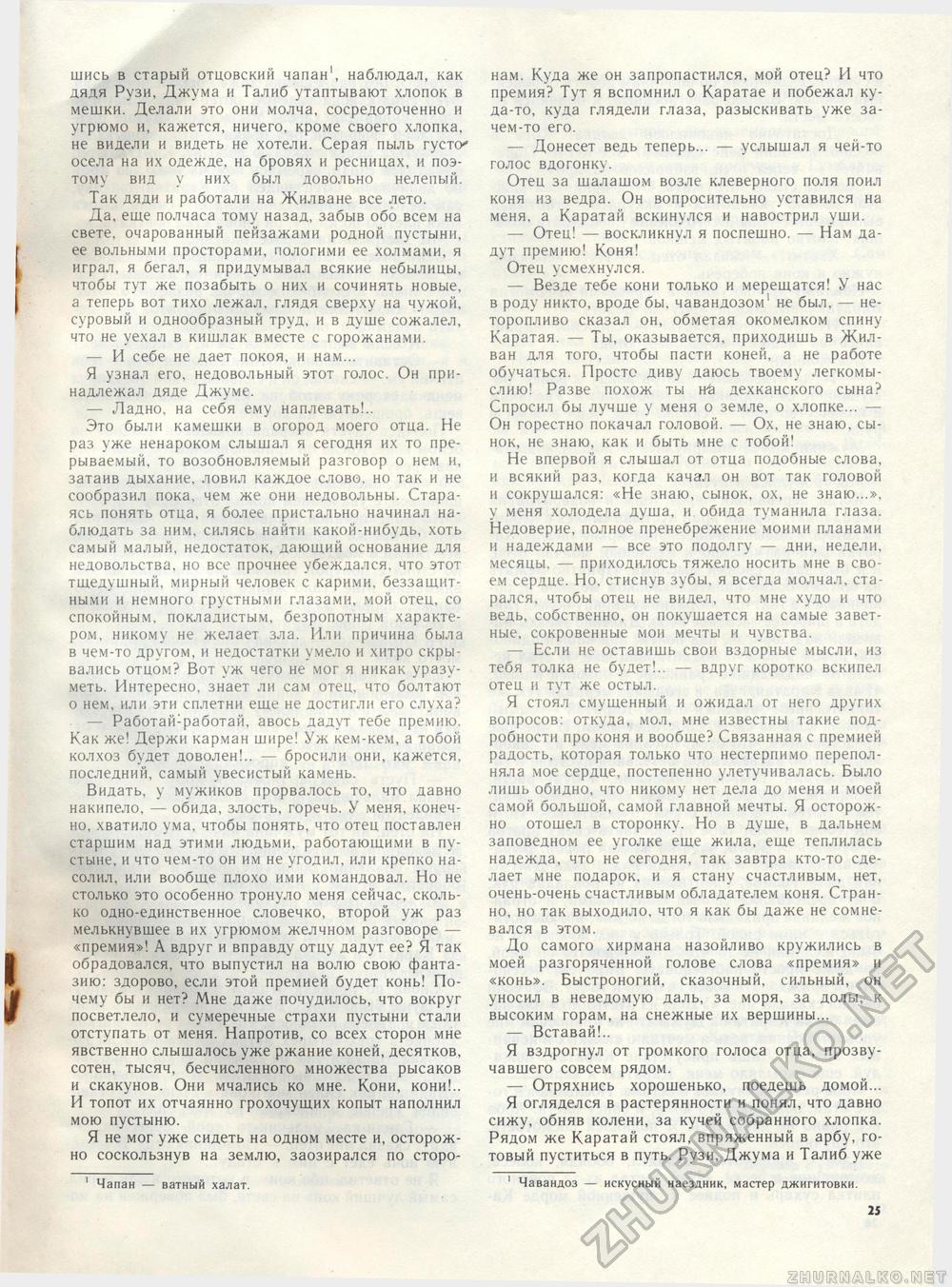
шись в старый отцовский чапан1, наблюдал, как дядя Рузи, Джума и Талиб утаптывают хлопок в мешки. Делали это они молча, сосредоточенно и угрюмо и, кажется, ничего, кроме своего хлопка, не видели и видеть не хотели. Серая пыль густо* осела на их одежде, на бровях и ресницах, и поэтому вид v них был довольно нелепый. J W Так дяди и работали на Жилване все лето. Да, еще полчаса тому назад, забыв обо всем на свете, очарованный пейзажами родной пустыни, ее вольными просторами, пологими ее холмами, я играл, я бегал, я придумывал всякие небылицы, чтобы тут же позабыть о них и сочинять новые, а теперь вот тихо лежал, глядя сверху на чужой, суровый и однообразный труд, и в душе сожалел, что не уехал в кишлак вместе с горожанами. — И себе не дает покоя, и нам... Я узнал его, недовольный этот голос. Он принадлежал дяде Джуме. — Ладно, на себя ему наплевать!.. Это были камешки в огород моего отца. Не раз уже ненароком слышал я сегодня их то прерываемый, то возобновляемый разговор о нем и, затаив дыхание, ловил каждое слово, но так и не сообразил пока, чем же они недовольны. Стараясь понять отца, я более пристально начинал наблюдать за ним, силясь найти какой-нибудь, хоть самый малый, недостаток, дающий основание для недовольства, но все прочнее убеждался, что этот тщедушный, мирный человек с карими, беззащитными и немного грустными глазами, мой отец, со спокойным, покладистым, безропотным характером, никому не желает зла. Или причина была в чем-то другом, и недостатки умело и хитро скрывались отцом? Вот уж чего не мог я никак уразуметь. Интересно, знает ли сам отец, что болтают о нем, или эти сплетни еще не достигли его слуха? — Работай:работай, авось дадут тебе премию. Как же! Держи карман шире! Уж кем-кем, а тобой колхоз будет доволен!.. — бросили они, кажется, О и последний, самый увесистыи камень. Видать, у мужиков прорвалось то, что давно накипело, — обида, злость, горечь. У меня, конечно, хватило ума, чтобы понять, что отец поставлен старшим над этими людьми, работающими в пустыне, и что чем-то он им не угодил, или крепко насолил, или вообще плохо ими командовал. Но не столько это особенно тронуло меня сейчас, сколько одно-единственное словечко, второй уж раз мелькнувшее в их угрюмом желчном разговоре — «премия»! А вдруг и вправду отцу дадут ее? Я так обрадовался, что выпустил на волю свою фантазию: здорово, если этой премией будет конь! Почему бы и нет? Мне даже почудилось, что вокруг посветлело, и сумеречные страхи пустыни стали отступать от меня. Напротив, со всех сторон мне явственно слышалось уже ржание коней, десятков, сотен, тысяч, бесчисленного множества рысаков и скакунов. Они мчались ко мне. Кони, кони!.. И топот их отчаянно грохочущих копыт наполнил мою пустыню. Я не мог уже сидеть на одном месте и, осторожно соскользнув на землю, заозирался по сторо нам. Куда же он запропастился, мой отец? И что премия? Тут я вспомнил о Каратае и побежал куда-то, куда глядели глаза, разыскивать уже за-чем-то его. Донесет ведь теперь... услышал я чей-то голос вдогонку. Отец за шалашом возле клеверного поля поил коня из ведра. Он вопросительно уставился на меня, а Каратай вскинулся и навострил уши. — Отец! — воскликнул я поспешно. — Нам дадут премию! Коня! Отец усмехнулся. Везде тебе кони только и мерещатся! У нас — не- в роду никто, вроде бы, чавандозом не был, — торопливо сказал он, обметая окомелком спину Каратая. — Ты, оказывается, приходишь в Жил-ван для того, чтобы пасти коней, а не работе обучаться. Просто диву даюсь твоему легкомыслию! Разве похож ты дехканского сына? Спросил бы лучше у меня о земле, о хлопке... — Он горестно покачал головой. — Ох, не знаю, сынок, не знаю, как и быть мне с тобой! Не впервой я слышал от отца подобные слова, и всякий раз, когда качал он вот так головой и сокрушался: «Не знаю, сынок, ох, не знаю...», у меня холодела душа, и обида туманила глаза. Недоверие, полное пренебрежение моими планами и надеждами — все это подолгу — дни, недели, месяцы, — приходилась тяжело носить мне в своем сердце. Но, стиснув зубы, я всегда молчал, старался, чтобы отец не видел, что мне худо и что ведь, собственно, он покушается на самые заветные, сокровенные мои мечты и чувства. — Если не оставишь свои вздорные мысли, из тебя толка не будет!.. — вдруг коротко вскипел отец и тут же остыл. Я стоял смущенный и ожидал от него других вопросов: откуда, мол, мне известны такие подробности про коня и вообще? Связанная с премией радость, которая только что нестерпимо переполняла мое сердце, постепенно улетучивалась. Было лишь обидно, что никому нет дела до меня и моей самой большой, самой главной мечты. Я осторожно отошел в сторонку. Но в душе, в дальнем заповедном ее уголке еще жила, еще теплилась надежда, что не сегодня, так завтра кто-то сделает мне подарок, и я стану счастливым, нет, очень-очень счастливым обладателем коня. Странно, но так выходило, что я как бы даже не сомневался в этом. До самого хирмана назойливо кружились в моей разгоряченной голове слова «премия» и «конь». Быстроногий, сказочный, сильный, он уносил в неведомую даль, за моря, за долы, к высоким горам, на снежные их вершины... — Вставай!.. Я вздрогнул от громкого голоса отца, прозвучавшего совсем рядом. — Отряхнись хорошенько, поедешь домой... Я огляделся в растерянности и понял, что давно сижу, обняв колени, за кучей собранного хлопка. Рядом же Каратай стоял, впряженный в арбу, готовый пуститься в путь. Рузи, Джума и Талиб уже Чапан ватный халат. Чавандоз — искусный наездник, мастер джигитовки. 25 |








