Костёр 1989-12, страница 9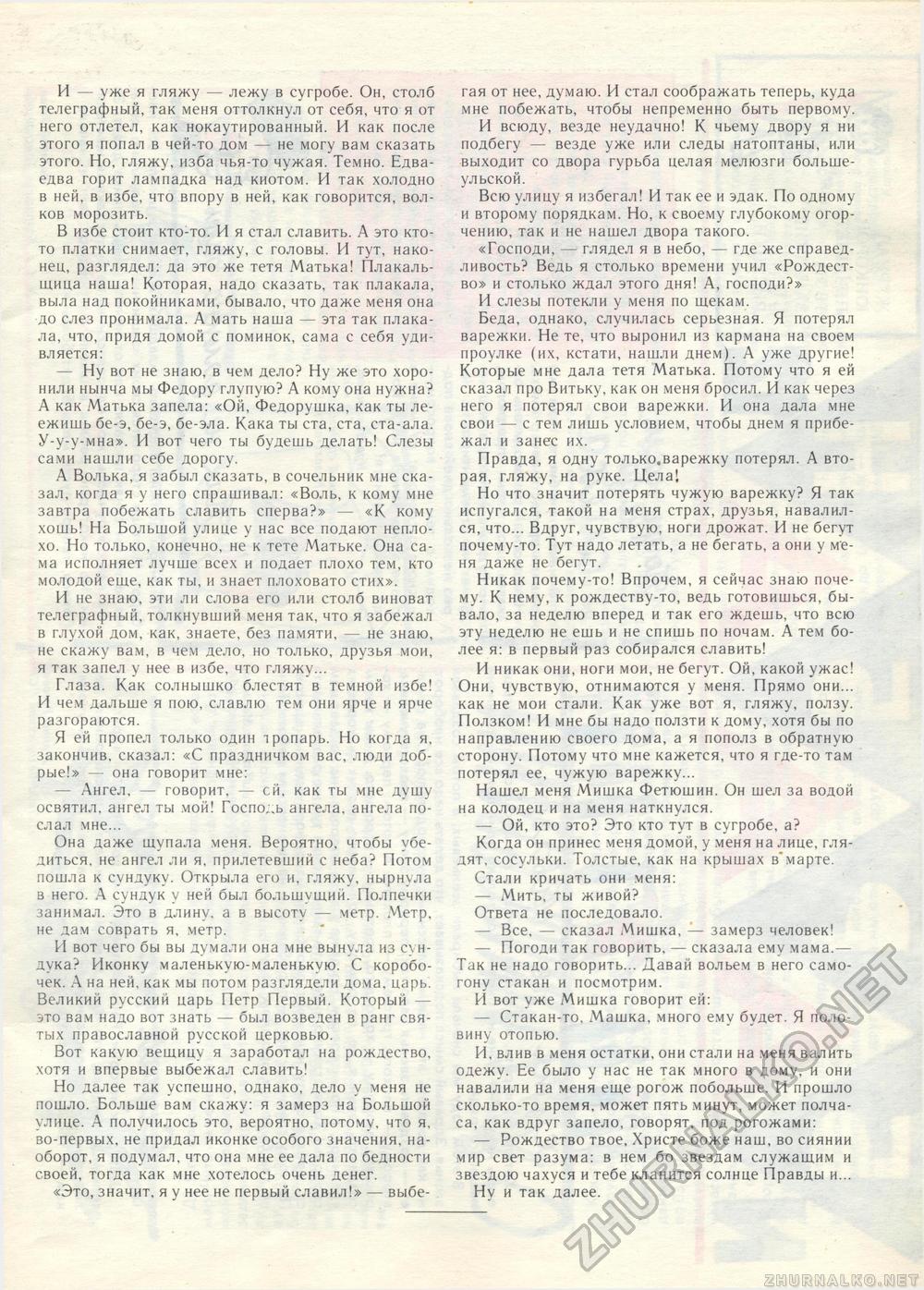
и уже я гляжу — лежу в сугробе. Он, столб телеграфный, так меня оттолкнул от себя, что я от него отлетел, как нокаутированный. И как после этого я попал в чей-то дом — не могу вам сказать этого. Но, гляжу, изба чья-то чужая. Темно. Едва-едва горит лампадка над киотом. И так холодно в ней, в избе, что впору в ней, как говорится, волков морозить. В избе стоит кто-то. И я стал славить. А это кто-то платки снимает, гляжу, с головы. И тут, наконец, разглядел: да это же тетя Матька! Плакальщица наша! Которая, надо сказать, так плакала, выла над покойниками, бывало, что даже меня она до слез пронимала. А мать наша — эта так плакала, что, придя домой с поминок, сама с себя удивляется: — Ну вот не знаю, в чем дело? Ну же это хоро нили нынча мы Федору глупую? А кому она нужна? А как Матька запела: «Ой, Федорушка, как ты ле-ежишь бе-э, бе-э, бе-эла. Кака ты ста, ста, ста-ала. У-у-у-мна». И вот чего ты будешь делать! Слезы сами нашли себе дорогу. А Волька, я забыл сказать, в сочельник мне сказал, когда я у него спрашивал: «Воль, к кому мне завтра побежать славить сперва?» — «К кому хошь! На Большой улице у нас все подают неплохо. Но только, конечно, не к тете Матьке. Она сама исполняет лучше всех и подает плохо тем, кто молодой еще, как ты, и знает плоховато стих». И не знаю, эти ли слова его или столб виноват телеграфный, толкнувший меня так, что я забежал в глухой дом, как, знаете, без памяти, — не знаю, не скажу вам, в чем дело, но только, друзья мои, я так запел у нее в избе, что гляжу... Глаза. Как солнышко блестят в темной избе! И чем дальше я пою, славлю тем они ярче и ярче разгораются. Я ей пропел только один тропарь. Но когда я, закончив, сказал: «С праздничком вас, люди добрые!» — она говорит мне: — Ангел, — говорит, си, как ты мне душу освятил, ангел ты мой! Господь ангела, ангела послал мне... Она даже щупала меня. Вероятно, чтобы убедиться, не ангел ли я, прилетевший с неба? Потом пошла к сундуку. Открыла его и, гляжу, нырнула в него. А сундук у ней был большущий. Полпечки занимал. Это в длину, а в высоту — метр. Метр, не дам соврать я, метр. . " И вот чего бы вы думали она мне вынула из сундука? Иконку маленькую-маленькую. С коробо-чек. А на ней, как мы потом разглядели дома, царь. Великий русский царь Петр Первый. Который — это вам надо вот знать — был возведен в ранг святых православной русской церковью. Вот какую вещицу я заработал на рождество, хотя и впервые выбежал славить! Но далее так успешно, однако, дело v меня не пошло. Больше вам скажу: я замерз на Большой улице. А получилось это, вероятно, потому, что я, во-первых, не придал иконке особого значения, наоборот, я подумал, что она мне ее дала по бедности своей, тогда как мне хотелось очень денег. «Это, значит, я у нее не первый славил!» — выбе гая от нее, думаю. И стал соображать теперь, куда мне побежать, чтобы непременно быть первому. И всюду, везде неудачно! К чьему двору я ни подбегу — везде уже или следы натоптаны, или выходит со двора гурьба целая мелюзги больше- U ульскои. Всю улицу я избегал! И так ее и эдак. По одному и второму порядкам. Но, к своему глубокому огорчению, так и не нашел двора такого. «Господи, — глядел я в небо, — где же справедливость? Ведь я столько времени учил «Рождество» и столько ждал этого дня! А, господи?» И слезы потекли у меня по щекам. Беда, однако, случилась серьезная. Я потерял варежки. Не те, что выронил из кармана на своем проулке (их, кстати, нашли днем). А уже другие! Которые мне дала тетя Матька. Потому что я ей сказал про Витьку, как он меня бросил. И как через него я потерял свои варежки. И она дала мне свои — с тем лишь условием, чтобы днем я прибежал и занес их. Правда, я одну только.варежку потерял. А вторая, гляжу, на руке. Цела! Но что значит потерять чужую варежку? Я так испугался, такой на меня страх, друзья, навалился, что... Вдруг, чувствую, ноги дрожат. И не бегут почему-то. Тут надо летать, а не бегать, а они у меня даже не бегут. Никак почему-то! Впрочем, я сейчас знаю почему. К нему, к рождеству-то, ведь готовишься, бывало, за неделю вперед и так его ждешь, что всю эту неделю не ешь и не спишь по ночам. А тем более я: в первый раз собирался славить! И никак они, ноги мои, не бегут. Ой, какой ужас! Они, чувствую, отнимаются у меня. Прямо они... как не мои стали. Как уже вот я, гляжу, ползу. Ползком! И мне бы надо ползти к дому, хотя бы по направлению своего дома, а я пополз в обратную сторону. Потому что мне кажется, что я где-то там потерял ее, чужую варежку... Нашел меня Мишка Фетюшин. Он шел за водой на колодец и на меня наткнулся. — Ой, кто это? Это кто тут в сугробе, а? Когда он принес меня домой, у меня на лице, глядят, сосульки. Толстые, как на крышах в'марте. Стали кричать они меня: Мить, ты живой? Ответа не последовало. — Все, — сказал Мишка, — замерз человек! — Погоди так говорить, — сказала ему мама.— Так не надо говорить... Давай вольем в него самогону стакан и посмотрим. И вот уже Мишка говорит ей: — Стакан-то, Машка, много ему будет. Я поло- т/ вину отопью. И, влив в меня остатки, они стали на меня валить одежу. Ее было у нас не так много в дому, и они навалили на меня еще рогож побольше. И прошло сколько-то время, может пять минут, может полчаса, как вдруг запело, говорят, под рогожами: — Рождество твое, Христе боже наш, во сиянии мир свет разума: в нем бо звездам служащим и звездою чахуся и тебе кланится солнце Правды и... Ну и так далее. |








