Костёр 1990-10, страница 17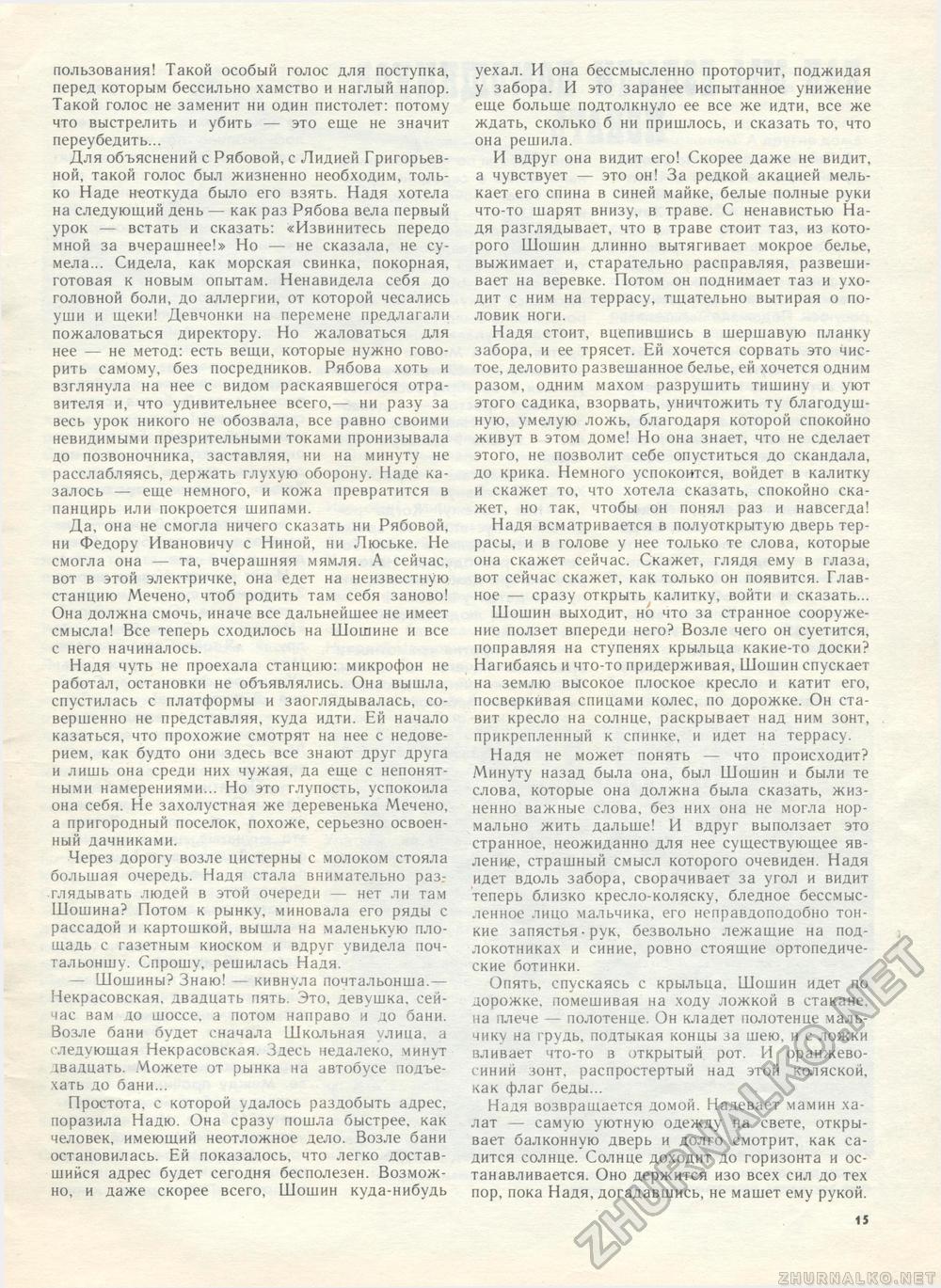
пользования! Такой особый голос для поступка, перед которым бессильно хамство и наглый напор. Такой голос не заменит ни один пистолет: потому что выстрелить и убить — это еще не значит переубедить... Для объяснений с Рябовой, с Лидией Григорьевной, такой голос был жизненно необходим, только Наде неоткуда было его взять. Надя хотела на следующий день — как раз Рябова вела первый урок — встать и сказать: «Извинитесь передо — не сказала, не су мной за вчерашнее!» Но — мела... Сидела, как морская свинка, покорная, готовая к новым опытам. Ненавидела себя до головной боли, до аллергии, от которой чесались уши и щеки! Девчонки на перемене предлагали пожаловаться директору. Но жаловаться для нее — не метод: есть вещи, которые нужно говорить самому, без посредников. Рябова хоть и взглянула на нее с видом раскаявшегося отравителя и, что удивительнее всего,— ни разу за весь урок никого не обозвала, все равно своими невидимыми презрительными токами пронизывала до позвоночника, заставляя, ни на минуту не расслабляясь, держать глухую оборону. Наде казалось — еще немного, и кожа превратится в панцирь или покроется шипами. Да, она не смогла ничего сказать ни Рябовой, ни Федору Ивановичу с Ниной, ни Люське. Не смогла она — та, вчерашняя мямля. А сейчас, U вот в этой электричке, она едет на неизвестную станцию Мечено, чтоб родить там себя заново! Она должна смочь, иначе все дальнейшее не имеет смысла! Все теперь сходилось на Шошине и все с него начиналось. Надя чуть не проехала станцию: микрофон не работал, остановки не объявлялись. Она вышла, спустилась с платформы и заоглядывалась, совершенно не представляя, куда идти. Ей начало казаться, что прохожие смотрят на нее с недоверием, как будто они здесь все знают друг друга и лишь она среди них чужая, да еще с непонятными намерениями... Но это глупость, успокоила она себя. Не захолустная же деревенька Мечено, а пригородный поселок, похоже, серьезно освоенный дачниками. Через дорогу возле цистерны с молоком стояла большая очередь. Надя стала внимательно раз.-глядывать людей в этой очереди — нет ли там Шошина? Потом к рынку, миновала его ряды с рассадой и картошкой, вышла на маленькую площадь с газетным киоском и вдруг увидела почтальоншу. Спрошу, решилась Надя. — Шошины? Знаю! — кивнула почтальонша.— Некрасовская, двадцать пять. Это, девушка, сейчас вам до шоссе, а потом направо и до бани. Возле бани будет сначала Школьная улица, а W %/ следующая Некрасовская. Здесь недалеко, минут хвадцать. Можете от рынка на автобусе подъехать до бани... Простота, с которой удалось раздобыть адрес, поразила Надю. Она сразу пошла быстрее, как человек, имеющий неотложное дело. Возле бани остановилась. Ей показалось, что легко доставшийся адрес будет сегодня бесполезен. Возможно, и даже скорее всего, Шошин куда-нибудь уехал. И она бессмысленно проторчит, поджидая у забора. И это заранее испытанное унижение еще больше подтолкнуло ее все же идти, все же ждать, сколько б ни пришлось, и сказать то, что она решила. И вдруг она видит его! Скорее даже не видит, а чувствует — это он! За редкой акацией мелькает его спина в синей майке, белые полные руки что-то шарят внизу, в траве. С ненавистью Надя разглядывает, что в траве стоит таз, из которого Шошин длинно вытягивает мокрое белье, выжимает и, старательно расправляя, развешивает на веревке. Потом он поднимает таз и уходит с ним на террасу, тщательно вытирая о половик ноги. Надя стоит, вцепившись в шершавую планку забора, и ее трясет. Ей хочется сорвать это чистое, деловито развешанное белье, ей хочется одним разом, одним махом разрушить тишину и уют этого садика, взорвать, уничтожить ту благодушную, умелую ложь, благодаря которой спокойно живут в этом доме! Но она знает, что не сделает этого, не позволит себе опуститься до скандала, до крика. Немного успокоится, войдет в калитку и скажет то, что хотела сказать, спокойно скажет, но так, чтобы он понял раз и навсегда! Надя всматривается в полуоткрытую дверь террасы, и в голове у нее только те слова, которые она скажет сейчас. Скажет, глядя ему в глаза, вот сейчас скажет, как только он появится. Главное — сразу открыть калитку, войти и сказать... Шошин выходит, но что за странное сооружение ползет впереди него? Возле чего он суетится, поправляя на ступенях крыльца какие-то доски? Нагибаясь и что-то придерживая, Шошин спускает на землю высокое плоское кресло и катит его, посверкивая спицами колес, по дорожке. Он ставит кресло на солнце, раскрывает над ним зонт, прикрепленный к спинке, и идет на террасу. Надя не может понять — что происходит? Минуту назад была она, был Шошин и были те слова, которые она должна была сказать, жизненно важные слова, без них она не могла нормально жить дальше! И вдруг выползает это странное, неожиданно для нее существующее явление, страшный смысл которого очевиден. Надя идет вдоль забора, сворачивает за угол и видит теперь близко кресло-коляску, бледное бессмысленное лицо мальчика, его неправдоподобно тонкие запястья • рук, безвольно лежащие на подлокотниках и синие, ровно стоящие ортопедические ботинки. Опять, спускаясь с крыльца, Шошин идет по дорожке, помешивая на ходу ложкой в стакане, на плече — полотенце. Он кладет полотенце мальчику на грудь, подтыкая концы за шею, и с ложки вливает что-то в открытый рот. И оранжево-синий зонт, распростертый над этой коляской, как флаг беды... Надя возвращается домой. Надевает мамин халат — самую уютную одежду на свете, открывает балконную дверь и долго смотрит, как садится солнце. Солнце доходит до горизонта и останавливается. Оно держится изо всех сил до тех пор, пока Надя, догадавшись, не машет ему рукой. 15 |








