Пионер 1988-07, страница 4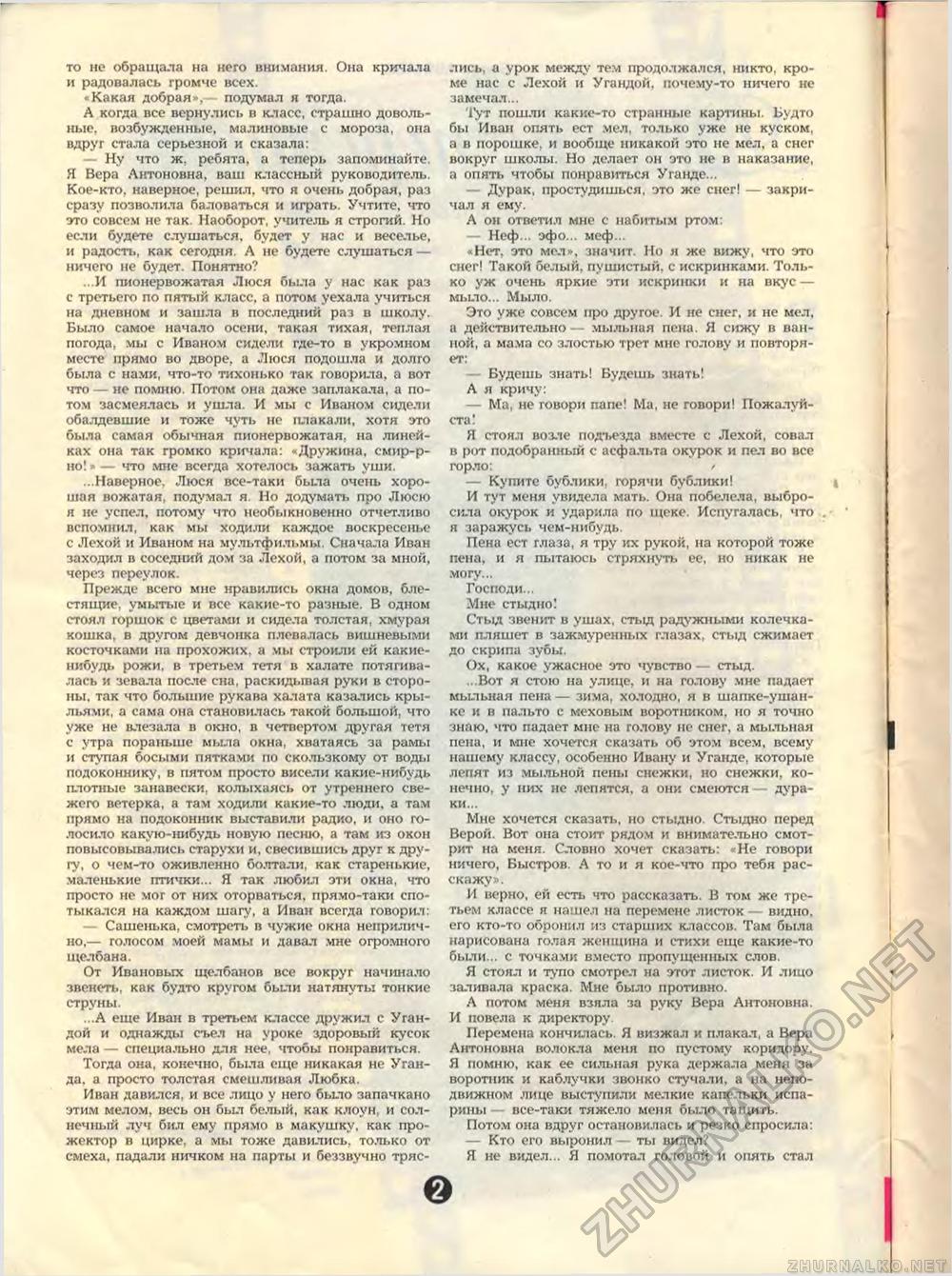
то не обращала на него внимания. Она кричала и радовалась громче всех. «Какая добрая». подумал я тогда. А когда все вернулись в класс, страшно довольные, возбужденные, малиновые с мороза, она вдруг стала серьезной и сказала: Ну что ж. ребята, а теперь запоминайте. Я Вера Антоновна, ваш классный руководитель. Кое-кто, наверное, решил, что я очень добрая, раз сразу позволила баловаться и играть. Учтите, что это совсем не так. Наоборот, учитель я строгий. Но если будете слушаться, будет у нас и веселье, и радость, как сегодня. А не будете слушаться — ничего не будет. Понятно? ...И пионервожатая Люся была у нас как раз с третьего по пятый класс, а потом уехала учиться на дневном и зашла в последний раз в школу. Было самое начало осени, такая тихая, теплая погода, мы с Иваном сидели где-то в укромном месте прямо во дворе, а Люся подошла и долго была с нами, что-то тихонько так говорила, а вот что — не помню. Потом она даже заплакала, а потом засмеялась и ушла. И мы с Иваном сидели обалдевшие и тоже чуть не плакали, хотя это была самая обычная пионервожатая, на линейках она так громко кричала: «Дружина, смир-р-но! » - что мне всегда хотелось зажать уши. ...Наверное. Люся все-таки была очень хорошая вожатая, подумал я. Но додумать про Люсю я не успел, потому что необыкновенно отчетливо вспомнил, как мы ходили каждое воскресенье с Лехой и Иваном на мультфильмы. Сначала Иван заходил в соседний дом за Лехой, а потом за мной, через переулок. Прежде всего мне нравились окна домов, блестящие. умытые и все какие-то разные. В одном стоял горшок с цветами и сидела толстая, хмурая кошка, в другом девчонка плевалась вишневыми косточками на прохожих, а мы строили ей какие-нибудь рожи, в третьем тетя в халате потягивалась и зевала после сна, раскидывая руки в стороны. так что большие рукава халата казались крыльями, а сама она становилась такой большой, что уже не влезала в окно, в четвертом другая тетя с утра пораньше мыла окна, хватаясь за рамы и ступая босыми пятками по скользкому от воды подоконнику, в пятом просто висели какие-нибудь плотные занавески, колыхаясь от утреннего свежего ветерка, а там ходили какие-то люди, а там прямо на подоконник выставили радио, и оно голосило какую-нибудь новую песню, а там из окон повысовывались старухи и, свесившись друг к другу, о чем-то оживленно болтали, как старенькие, маленькие птички... Я так любил эти окна, что просто не мог от них оторваться, прямо-таки спотыкался на каждом шагу, а Иван всегда говорил: Сашенька, смотреть в чужие окна неприлично,— голосом моей мамы и давал мне огромного щелбана. От Ивановых щелбанов все вокруг начинало звенеть, как будто кругом были натянуты тонкие струны. ...А еше Иван в третьем классе дружил с Угандой и однажды съел на уроке здоровый кусок мела — специально для нее, чтобы понравиться. Тогда она, конечно, была еще никакая не Уганда, а просто толстая смешливая Любка. Иван давился, и все лицо у него было запачкано этим мелом, весь он был белый, как клоун, и солнечный луч бил ему прямо в макушку, как прожектор в цирке, а мы тоже давились, только от смеха, падали ничком на парты и беззвучно тряс лись, а урок между тем продолжался, никто, кроме нас с Лехой и Угандой, почему-то ничего не замечал... Тут пошли какие-то странные картины. Будто бы Иван опять ест мел, только уже не куском, а в порошке, и вообще никакой это не мел, а снег вокруг школы. Но делает он это не в наказание, а опять чтобы понравиться Уганде... — Дурак, простудишься, это же снег! — закричал я ему. А он ответил мне с набитым ртом: — Неф... эфо... меф... «Нет. это мел», значит. Но я же вижу, что это снег! Такой белый, пушистый, с искринками. Только уж очень яркие эти искринки и на вкус — мыло... Мыло. Ото уже совсем про другое. И не снег, и не мел, а действительно мыльная пена. Я сижу в ванной, а мама со злостью трет мне голову и повторяет: Будешь знать! Будешь знать! А я кричу: — Ма, не говори папе! Ма, не говори! Пожалуйста! Я стоял возле подъезда вместе с Лехой, совал в рот подобранный С асфальта окурок и пел во все горло: / — Купите бублики, горячи бублики! И тут меня увидела мать. Она побелела, выбросила окурок и ударила по щеке. Испугалась, что я заражусь чем-нибудь. Пена ест глаза, я тру их рукой, на которой тоже пена, и я пытаюсь стряхнуть ее, но никак не могу... Господи... Мне стыдно! Стыд звенит в ушах, стыд радужными колечками пляшет в зажмуренных глазах, стыд сжимает до скрипа зубы. Ох, какое ужасное это чувство — стыд. ...Вот я стою на улице, и на голову мне падает мыльная пена — зима, холодно, я в шапке-ушанке и в пальто с меховым воротником, но я точно знаю, что падает мне на голову не снег, а мыльная пена, и мне хочется сказать об этом всем, всему нашему классу, особенно Ивану и Уганде, которые лепят из мыльной пены снежки, но снежки, конечно. у них но лепится, а они смеются дураки... Мне хочется сказать, но стыдно. Стыдно перед Верой. Вот она стоит рядом и внимательно смотрит на меня. Словно хочет сказать: «Не говори ничего, Быстрое. А то и я кое-что про тебя расскажу». И верно, ей есть что рассказать. В том же третьем классе я нашел на перемене листок видно, его кто-то обронил из старших классов. Там была нарисована голая женщина и стихи еще какие-то были... с точками вместо пропущенных слов. Я стоял и тупо смотрел на этот листок. И лицо заливала краска. Мне было противно. А потом меня взяла за руку Вера Антоновна. И повела к директору. Перемена кончилась. Я визжал и плакал, а Вера Антоновна волокла меня по пустому коридору. Я помню, как ее сильная рука держала меня за воротник и каблучки звонко стучали, а на неподвижном лице выступили мелкие капельки испарины все-таки тяжело меня было тащить. Потом она вдруг остановилась и резко спросила: — Кто его выронил ты видел? Я не видел... Я помотал головой и опять стал О |








