Пионер 1989-11, страница 33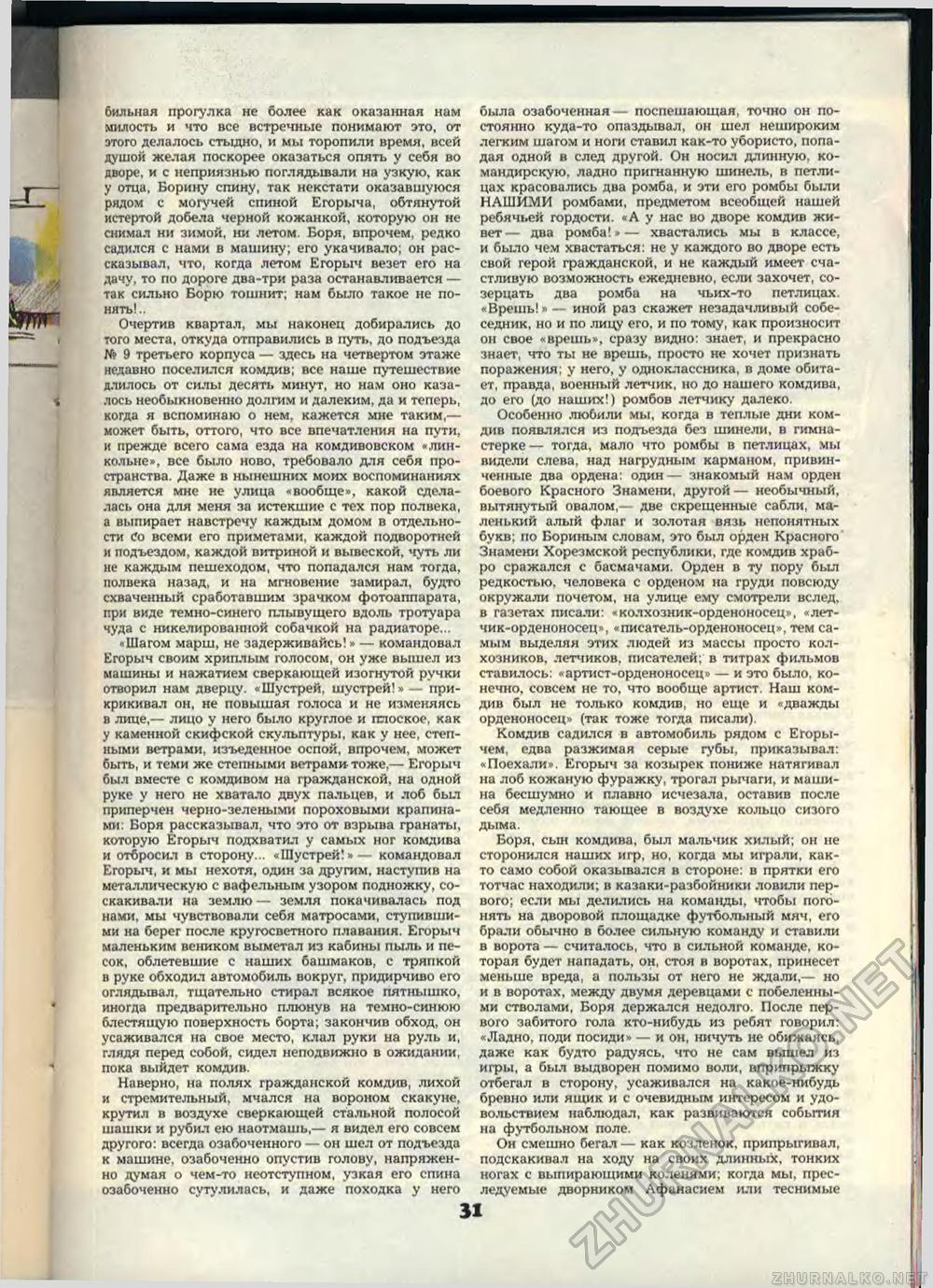
бильная прогулка не более как оказанная нам милость и что все встречные понимают это, от этого делалось стыдно, и мы торопили время, всей душой желая поскорее оказаться опять у себя во дворе, и с неприязнью поглядывали на узкую, как у отца, Борину спину, так некстати оказавшуюся рядом с могучей спиной Егорыча, обтянутой истертой добела черной кожанкой, которую он не снимал ни зимой, ни летом. Боря, впрочем, редко садился с нами в машину; его укачивало; он рассказывал, что, когда летом Егорыч везет его на дачу, то по дороге два-три раза останавливается — так сильно Борю тошнит; нам было такое не понять!.. Очертив квартал, мы наконец добирались до того места, откуда отправились в путь, до подъезда N? 9 третьего корпуса — здесь на четвертом этаже недавно поселился комдив; все наше путешествие длилось от силы десять минут, но нам оно казалось необыкновенно долгим и далеким, да и теперь, когда я вспоминаю о нем, кажется мне таким,— может быть, оттого, что все впечатления на пути, и прежде всего сама езда на комдивовском «линкольне», все было ново, требовало для себя пространства. Даже в нынешних моих воспоминаниях является мне не улица «вообще», какой сделалась она для меня за истекшие с тех пор полвека, а выпирает навстречу каждым домом в отдельности Со всеми его приметами, каждой подворотней и подъездом, каждой витриной и вывеской, чуть ли не каждым пешеходом, что попадался нам тогда, полвека назад, и на мгновение замирал, будто схваченный сработавшим зрачком фотоаппарата, при виде темно-синего плывущего вдоль тротуара чуда с никелировашюй собачкой на радиаторе... «Шагом марш, не задерживайсь!» — командовал Егорыч своим хриплым голосом, он уже вышел из машины и нажатием сверкающей изогнутой ручки отворил нам дверцу. «Шустрей, шустрей!» прикрикивал он, не повышая голоса и не изменяясь в лице,— лицо у него было круглое и плоское, как у каменной скифской скульптуры, как у нее, степными ветрами, изъеденное оспой, впрочем, может быть, и теми же степными ветрами- тоже,— Егорыч был вместе с комдивом на гражданской, на одной руке у него не хватало двух пальцев, и лоб был приперчен черно-зелеными пороховыми крапинами: Боря рассказывал, что это от взрыва гранаты, которую Егорыч подхватил у самых ног комдива и отбросил в сторону... «Шустрей!»- командовал Егорыч, и мы нехотя, один за другим, наступив на металлическую с вафельным узором подножку, соскакивали на землю — земля покачивалась под нами, мы чувствовали себя матросами, ступившими на берег после кругосветного плавания. Егорыч маленьким витком выметал из кабины пыль и песок, облетевшие с наших башмаков, с тряпкой в руке обходил автомобиль вокруг, придирчиво его оглядывал, тщательно стирал всякое пятнышко, иногда предварительно плюнув на темно-синюю блестящую поверхность борта; закончив обход, он усаживался на свое место, клал руки на руль и, глядя перед собой, сидел неподвижно в ожидании, пока выйдет комдив. Наверно, на полях гражданской комдив, лихой и стремительный, мчался на вороном скакуне, крутил в воздухе сверкающей стальной полосой шашки и рубил ею наотмашь,— я видел его совсем другого: всегда озабоченного — он шел от подъезда к машине, озабоченно опустив голову, напряженно думая о чем-то неотступном, узкая его спина озабоченно сутулилась, и даже походка у него была озабоченная— поспешающая, точно он постоянно куда-то опаздывал, он шел нешироким легким шагом и ноги ставил как-то убористо, попадая одной в след другой. Он носил длинную, командирскую, ладно пригнанную шинель, в петлицах красовались два ромба, и эти его ромбы были НАШИМИ ромбами, предметом всеобщей нашей ребячьей гордости. «А у нас во дворе комдив живет— два ромба!»— хвастались мы в классе, и было чем хвастаться: не у каждого во дворе есть свой герой гражданской, и не каждый имеет счастливую возможность ежедневно, если захочет, созерцать два ромба на чьих-то петлицах. «Врешь!» — иной раз скажет незадачливый собеседник, но и по лицу его, и по тому, как произносит он свое «врешь», сразу видно: знает, и прекрасно знает, что ты не врешь, просто не хочет признать поражения; у него, у одноклассника, в доме обитает, правда, военный летчик, но до нашего комдива, до его (до наших!) ромбов летчику далеко. Особенно любили мы, когда в теплые дни комдив появлялся из подъезда без шинели, в гимнастерке — тогда, мало что ромбы в петлицах, мы видели слева, над нагрудным карманом, привинченные два ордена: один— знакомый нам орден боевого Красного Знамени, другой — необычный, вытянутый овалом,— две скрещенные сабли, маленький алый флаг и золотая вязь непонятных букв; по Бориным словам, это был орден Красного Знамени Хорезмской республики, где комдив храбро сражался с басмачами. Орден в ту пору был редкостью, человека с орденом на груди повсюду окружали почетом, на улице ему смотрели вслед, в газетах писали: «колхозник-орденоносец», «летчик-орденоносец =>■, «писатель-орденоносец», тем самым выделяя этих людей из массы просто колхозников, летчиков, писателей; в титрах фильмов ставилось: «артист-орденоносец» — и это было, конечно, совсем не то, что вообще артист. Наш комдив был не только комдив, но еще и «дважды орденоносец» (так тоже тогда писали). Комдив садился в автомобиль рядом с Егоры-чем, едва разжимая серые губы, приказывал: «Поехали». Егорыч за козырек пониже натягивал на лоб кожаную фуражку, трогал рычаги, и машина бесшумно и плавно исчезала, оставив после себя медленно тающее в воздухе кольцо сизого дыма. Боря, сын комдива, был мальчик хилый; он не сторонился наших игр, но, когда мы играли, как-то само собой оказывался в стороне: в прятки его тотчас находили; в казаки-разбойники ловили первого; если мы делились на команды, чтобы погонять на дворовой площадке футбольный мяч, его брали обычно в более сильную команду и ставили в ворота — считалось, что в сильной команде, которая будет нападать, он, стоя в воротах, принесет меньше вреда, а пользы от него не ждали,— но и в воротах, между двумя деревцами с побеленными стволами, Боря держался недолго. Мосле первого забитого гола кто-нибудь из ребят говорил: «Ладно, поди посиди» — и он, ничуть не обижаясь, даже как будто радуясь, что не сам вышел из игры, а был выдворен помимо воли, вприпрыжку отбегал в сторону, усаживался на какое-нибудь бревно или ящик и с очевидным интересом и удовольствием наблюдал, как развиваются события на футбольном поле. Он смешно бегал — как козленок, припрыгивал, подскакивал на ходу на своих длинных, тонких ногах с выпирающими коленями; когда мы, преследуемые дворником Афанасием или теснимые 31 |








