Техника - молодёжи 2000-09, страница 44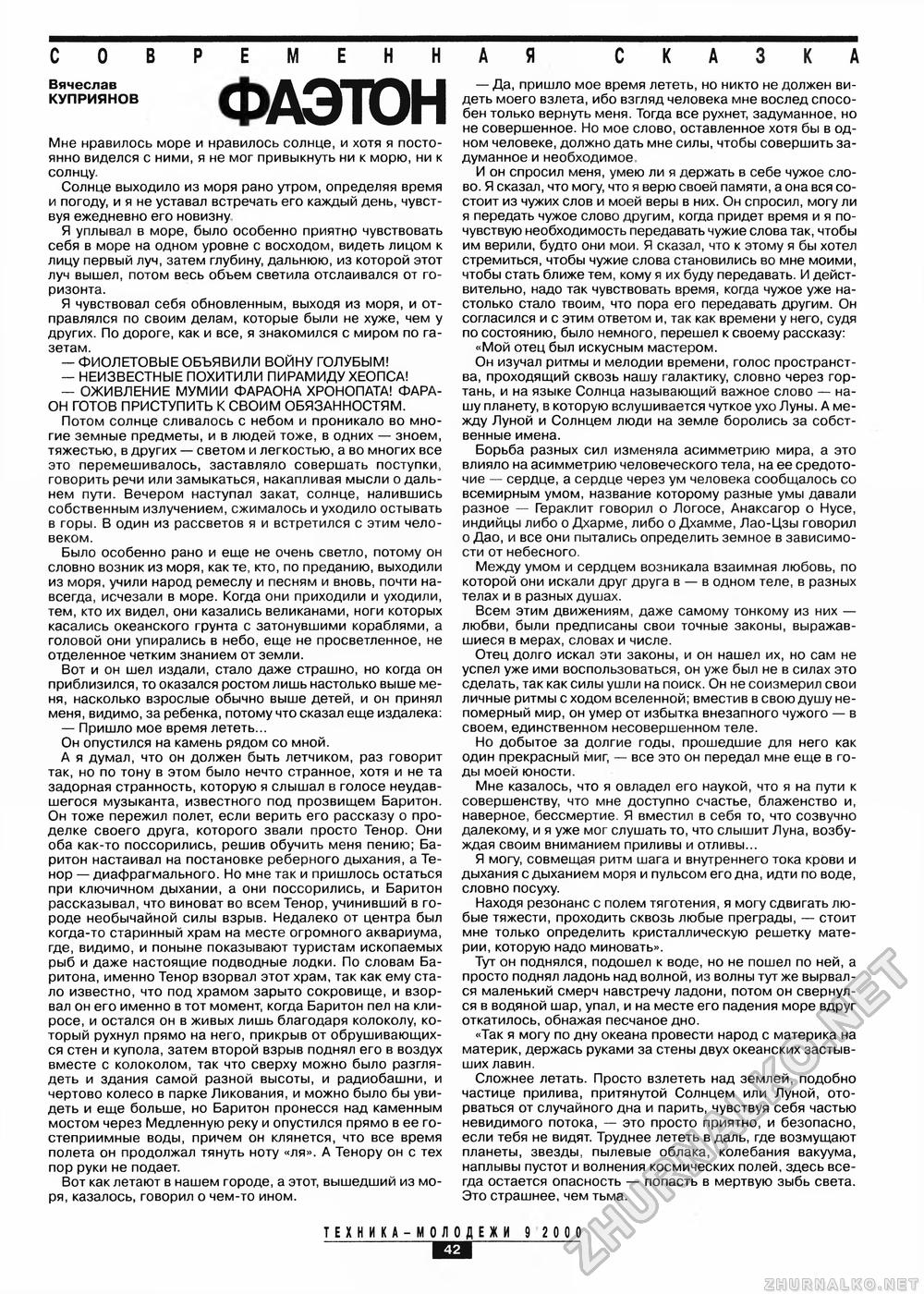
С О В Р Е М Е Н НАЯ СКАЗКА КУПРИЯНОВ ФАЭТОН Мне нравилось море и нравилось солнце, и хотя я постоянно виделся с ними, я не мог привыкнуть ни к морю, ни к солнцу Солнце выходило из моря рано утром, определяя время и погоду, и я не уставал встречать его каждый день, чувствуя ежедневно его новизну Я уплывал в море, было особенно приятно чувствовать себя в море на одном уровне с восходом, видеть лицом к лицу первый луч, затем глубину, дальнюю, из которой этот луч вышел, потом весь объем светила отслаивался от горизонта. Я чувствовал себя обновленным, выходя из моря, и отправлялся по своим делам, которые были не хуже, чем у других. По дороге, как и все, я знакомился с миром по газетам. — ФИОЛЕТОВЫЕ ОБЪЯВИЛИ ВОЙНУ ГОЛУБЫМ! — НЕИЗВЕСТНЫЕ ПОХИТИЛИ ПИРАМИДУ ХЕОПСА! — ОЖИВЛЕНИЕ МУМИИ ФАРАОНА ХРОНОПАТА! ФАРАОН ГОТОВ ПРИСТУПИТЬ К СВОИМ ОБЯЗАННОСТЯМ. Потом солнце сливалось с небом и проникало во многие земные предметы, и в людей тоже, в одних — зноем, тяжестью, в других — светом и легкостью, а во многих все это перемешивалось, заставляло совершать поступки, говорить речи или замыкаться, накапливая мысли о дальнем пути. Вечером наступал закат, солнце, налившись собственным излучением, сжималось и уходило остывать в горы. В один из рассветов я и встретился с этим человеком. Было особенно рано и еще не очень светло, потому он словно возник из моря, как те, кто, по преданию, выходили из моря, учили народ ремеслу и песням и вновь, почти навсегда, исчезали в море. Когда они приходили и уходили, тем, кто их видел, они казались великанами, ноги которых касались океанского грунта с затонувшими кораблями, а головой они упирались в небо, еще не просветленное, не отделенное четким знанием от земли. Вот и он шел издали, стало даже страшно, но когда он приблизился, то оказался ростом лишь настолько выше меня, насколько взрослые обычно выше детей, и он принял меня, видимо, за ребенка, потому что сказал еще издалека: — Пришло мое время лететь... Он опустился на камень рядом со мной. А я думал, что он должен быть летчиком, раз говорит так, но по тону в этом было нечто странное, хотя и не та задорная странность, которую я слышал в голосе неудавшегося музыканта, известного под прозвищем Баритон. Он тоже пережил полет, если верить его рассказу о проделке своего друга, которого звали просто Тенор. Они оба как-то поссорились, решив обучить меня пению; Баритон настаивал на постановке реберного дыхания, а Тенор — диафрагмального. Но мне так и пришлось остаться при ключичном дыхании, а они поссорились, и Баритон рассказывал, что виноват во всем Тенор, учинивший в городе необычайной силы взрыв. Недалеко от центра был когда-то старинный храм на месте огромного аквариума, где, видимо, и поныне показывают туристам ископаемых рыб и даже настоящие подводные лодки. По словам Баритона, именно Тенор взорвал этот храм, так как ему стало известно, что под храмом зарыто сокровище, и взорвал он его именно в тот момент, когда Баритон пел на клиросе, и остался он в живых лишь благодаря колоколу, который рухнул прямо на него, прикрыв от обрушивающихся стен и купола, затем второй взрыв поднял его в воздух вместе с колоколом, так что сверху можно было разглядеть и здания самой разной высоты, и радиобашни, и чертово колесо в парке Ликования, и можно было бы увидеть и еще больше, но Баритон пронесся над каменным мостом через Медленную реку и опустился прямо в ее гостеприимные воды, причем он клянется, что все время полета он продолжал тянуть ноту «ля». А Тенору он с тех пор руки не подает. Вот как летают в нашем городе, а этот, вышедший из моря, казалось, говорил о чем-то ином. — Да, пришло мое время лететь, но никто не должен видеть моего взлета, ибо взгляд человека мне вослед способен только вернуть меня. Тогда все рухнет, задуманное, но не совершенное. Но мое слово, оставленное хотя бы в одном человеке, должно дать мне силы, чтобы совершить задуманное и необходимое И он спросил меня, умею ли я держать в себе чужое слово. Я сказал, что могу, что я верю своей памяти, а она вся состоит из чужих слов и моей веры в них. Он спросил, могу ли я передать чужое слово другим, когда придет время и я почувствую необходимость передавать чужие слова так, чтобы им верили, будто они мои. Я сказал, что к этому я бы хотел стремиться, чтобы чужие слова становились во мне моими, чтобы стать ближе тем, кому я их буду передавать. И действительно, надо так чувствовать время, когда чужое уже настолько стало твоим, что пора его передавать другим. Он согласился и с этим ответом и, так как времени у него, судя по состоянию, было немного, перешел к своему рассказу: «Мой отец был искусным мастером. Он изучал ритмы и мелодии времени, голос пространства, проходящий сквозь нашу галактику, словно через гортань, и на языке Солнца называющий важное слово — нашу планету, в которую вслушивается чуткое ухо Луны. А между Луной и Солнцем люди на земле боролись за собственные имена. Борьба разных сил изменяла асимметрию мира, а это влияло на асимметрию человеческого тела, на ее средоточие — сердце, а сердце через ум человека сообщалось со всемирным умом, название которому разные умы давали разное — Гераклит говорил о Логосе, Анаксагор о Нусе, индийцы либо о Дхарме, либо о Дхамме, Лао-Цзы говорил о Дао, и все они пытались определить земное в зависимости от небесного. Между умом и сердцем возникала взаимная любовь, по которой они искали друг друга в — в одном теле, в разных телах и в разных душах. Всем этим движениям, даже самому тонкому из них — любви, были предписаны свои точные законы, выражавшиеся в мерах, словах и числе. Отец долго искал эти законы, и он нашел их, но сам не успел уже ими воспользоваться, он уже был не в силах это сделать, так как силы ушли на поиск. Он не соизмерил свои личные ритмы с ходом вселенной; вместив в свою душу непомерный мир, он умер от избытка внезапного чужого — в своем, единственном несовершенном теле. Но добытое за долгие годы, прошедшие для него как один прекрасный миг, — все это он передал мне еще в годы моей юности. Мне казалось, что я овладел его наукой, что я на пути к совершенству, что мне доступно счастье, блаженство и, наверное, бессмертие. Я вместил в себя то, что созвучно далекому, и я уже мог слушать то, что слышит Луна, возбуждая своим вниманием приливы и отливы... Я могу, совмещая ритм шага и внутреннего тока крови и дыхания с дыханием моря и пульсом его дна, идти по воде, словно посуху. Находя резонанс с полем тяготения, я могу сдвигать любые тяжести, проходить сквозь любые преграды, — стоит мне только определить кристаллическую решетку материи, которую надо миновать». Тут он поднялся, подошел к воде, но не пошел по ней, а просто поднял ладонь над волной, из волны тут же вырвался маленький смерч навстречу ладони, потом он свернулся в водяной шар, упал, и на месте его падения море вдруг откатилось, обнажая песчаное дно. «Так я могу по дну океана провести народ с материка на материк, держась руками за стены двух океанских застывших лавин. Сложнее летать. Просто взлететь над землей, подобно частице прилива, притянутой Солнцем или Луной, оторваться от случайного дна и парить, чувствуя себя частью невидимого потока, — это просто приятно, и безопасно, если тебя не видят. Труднее лететь в даль, где возмущают планеты, звезды, пылевые облака, колебания вакуума, наплывы пустот и волнения космических полей, здесь всегда остается опасность — попасть в мертвую зыбь света. Это страшнее, чем тьма. ТЕХНИКА-МОЛОД ЕЖИ 9 2 0 0 0 42 |








