Вокруг света 1968-10, страница 9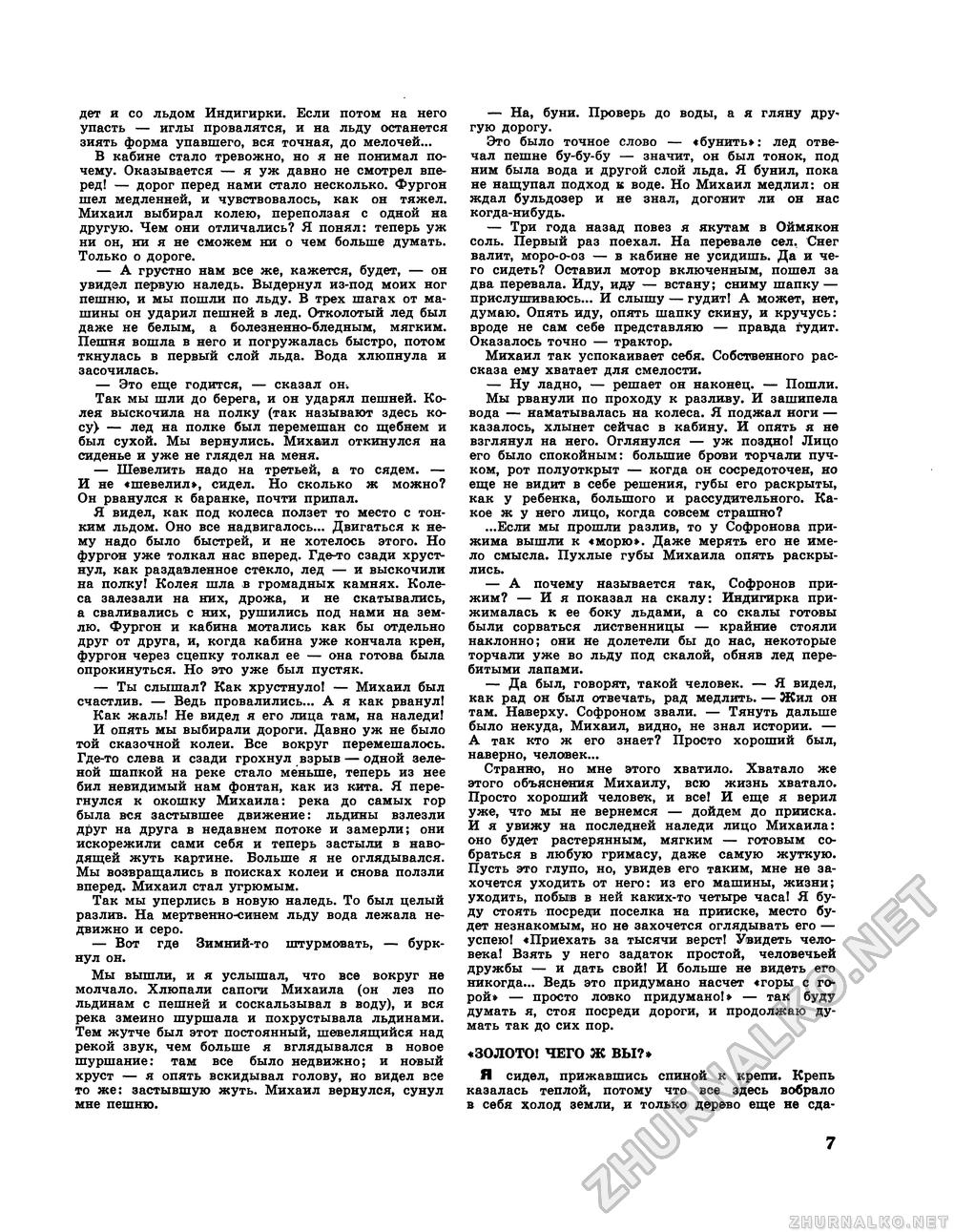
дет и со льдом Индигирки. Если потом на него упасть — иглы провалятся, и на льду останется зиять форма упавшего, вся точная, до мелочей... В кабине стало тревожно, но я не понимал почему. Оказывается — я уж давно не смотрел вперед! — дорог перед нами стало несколько. Фургон шел медленней, и чувствовалось, как он тяжел. Михаил выбирал колею, переползая с одной на другую. Чем они отличались? Я понял: теперь уж ни он, ни я не сможем ни о чем больше думать. Только о дороге. — А грустно нам все же, кажется, будет, — он увидел первую наледь. Выдернул из-под моих ног пешню, и мы пошли по льду. В трех шагах от машины он ударил пешней в лед. Отколотый лед был даже не белым, а болезненно-бледным, мягким. Пешня вошла в него и погружалась быстро, потом ткнулась в первый слой льда. Вода хлюпнула и засочилась. — Это еще годится, — сказал он. Так мы шли до берега, и он ударял пешней. Колея выскочила на полку (так называют здесь косу) — лед на полке был перемешан со щебнем и был сухой. Мы вернулись. Михаил откинулся на сиденье и уже не глядел на меня. — Шевелить надо на третьей, а то сядем. — И не «шевелил», сидел. Но сколько ж можно? Он рванулся к баранке, почти припал. Я видел, как под колеса ползет то место с тонким льдом. Оно все надвигалось... Двигаться к нему надо было быстрей, и не хотелось этого. Но фургон уже толкал нас вперед. Где-то сзади хрустнул, как раздавленное стекло, лед — и выскочили на полку! Колея шла в громадных камнях. Колеса залезали на них, дрожа, и не скатывались, а сваливались с них, рушились под нами на землю. Фургон и кабина мотались как бы отдельно друг от друга, и, когда кабина уже кончала крен, фургон через сцепку толкал ее — она готова была опрокинуться. Но это уже был пустяк. — Ты слышал? Как хрустнуло! — Михаил был счастлив. — Ведь провалились... А я как рванул! Как жаль! Не видел я его лица там, на наледи! И опять мы выбирали дороги. Давно уж не было той сказочной колеи. Все вокруг перемешалось. Где-то слева и сзади грохнул взрыв — одной зеленой шапкой на реке стало меньше, теперь из нее бил невидимый нам фонтан, как из кита. Я перегнулся к окошку Михаила: река до самых гор была вся застывшее движение: льдины взлезли друг на друга в недавнем потоке и замерли; они искорежили сами себя и теперь застыли в наводящей жуть картине. Больше я не оглядывался. Мы возвращались в поисках колеи и снова ползли вперед. Михаил стал угрюмым. Так мы уперлись в новую наледь. То был целый разлив. На мертвенно-синем льду вода лежала недвижно и серо. — Вот где Зимний-то штурмовать, — буркнул он. Мы вышли, и я услышал, что все вокруг не молчало. Хлюпали сапоги Михаила (он лез по льдинам с пешней и соскальзывал в воду), и вся река змеино шуршала и похрустывала льдинами. Тем жутче был этот постоянный, шевелящийся над рекой звук, чем больше я вглядывался в новое шуршание: там все было недвижно; и новый хруст — я опять вскидывал голову, но видел все то же: застывшую жуть. Михаил вернулся, сунул мне пешню. — На, буни. Проверь до воды, а я гляну дру* гую дорогу. Это было точное слово — «бунить»: лед отвечал пешне бу-бу-бу — значит, он был тонок, под ним была вода и другой слой льда. Я бунил, пока не нащупал подход к воде. Но Михаил медлил: он ждал бульдозер и не знал, догонит ли он нас когда-нибудь. — Три года назад повез я якутам в Оймякон соль. Первый раз поехал. На перевале сел. Снег валит, моро-о-оз — в кабине не усидишь. Да и чего сидеть? Оставил мотор включенным, пошел за два перевала. Иду, иду — встану; сниму шапку — прислушиваюсь... И слышу — гудит! А может, нет, думаю. Опять иду, опять шапку скину, и кручусь: вроде не сам себе представляю — правда гудит. Оказалось точно — трактор. Михаил так успокаивает себя. Собственного рассказа ему хватает для смелости. — Ну ладно, — решает он наконец. — Пошли. Мы рванули по проходу к разливу. И зашипела вода — наматывалась на колеса. Я поджал ноги — казалось, хлынет сейчас в кабину. И опять я не взглянул на него. Оглянулся — уж поздно! Лицо его было спокойным: большие брови торчали пучком, рот полуоткрыт — когда он сосредоточен, но еще не видит в себе решения, губы его раскрыты, как у ребенка, большого и рассудительного. Какое ж у него лицо, когда совсем страшно? ...Если мы прошли разлив, то у Софронова прижима вышли к «морю». Даже мерять его не имело смысла. Пухлые губы Михаила опять раскрылись. — А почему называется так, Софронов прижим? — И я показал на скалу: Индигирка прижималась к ее боку льдами, а со скалы готовы были сорваться лиственницы — крайние стояли наклонно; они не долетели бы до нас, некоторые торчали уже во льду под скалой, обняв лед перебитыми лапами. — Да был, говорят, такой человек. — Я видел, как рад он был отвечать, рад медлить. — Жил он там. Наверху. Софроном звали. — Тянуть дальше было некуда, Михаил, видно, не знал истории. — А так кто ж его знает? Просто хороший был, наверно, человек... Странно, но мне этого хватило. Хватало же этого объяснения Михаилу, всю жизнь хватало. Просто хороший человек, и все! И еще я верил уже, что мы не вернемся — дойдем до прииска. И я увижу на последней наледи лицо Михаила: оно будет растерянным, мягким — готовым собраться в любую гримасу, даже самую жуткую. Пусть это глупо, но, увидев его таким, мне не захочется уходить от него: из его машины, жизни; уходить, побыв в ней каких-то четыре часа! Я буду стоять посреди поселка на прииске, место будет незнакомым, но не захочется оглядывать его — успею! «Приехать за тысячи верст! Увидеть человека! Взять у него задаток простой, человечьей дружбы — и дать свой! И больше не видеть его никогда... Ведь это придумано насчет «горы с го* рой» — просто ловко придумано!» — так буду думать я, стоя посреди дороги, и продолжаю думать так до сих пор. ♦ЗОЛОТО! ЧЕГО Ж ВЫ?» Я сидел, прижавшись спиной к крепи. Крепь казалась теплой, потому что все здесь вобрало в себя холод земли, и только дерево еще не еда- 7 |








