Вокруг света 1969-05, страница 36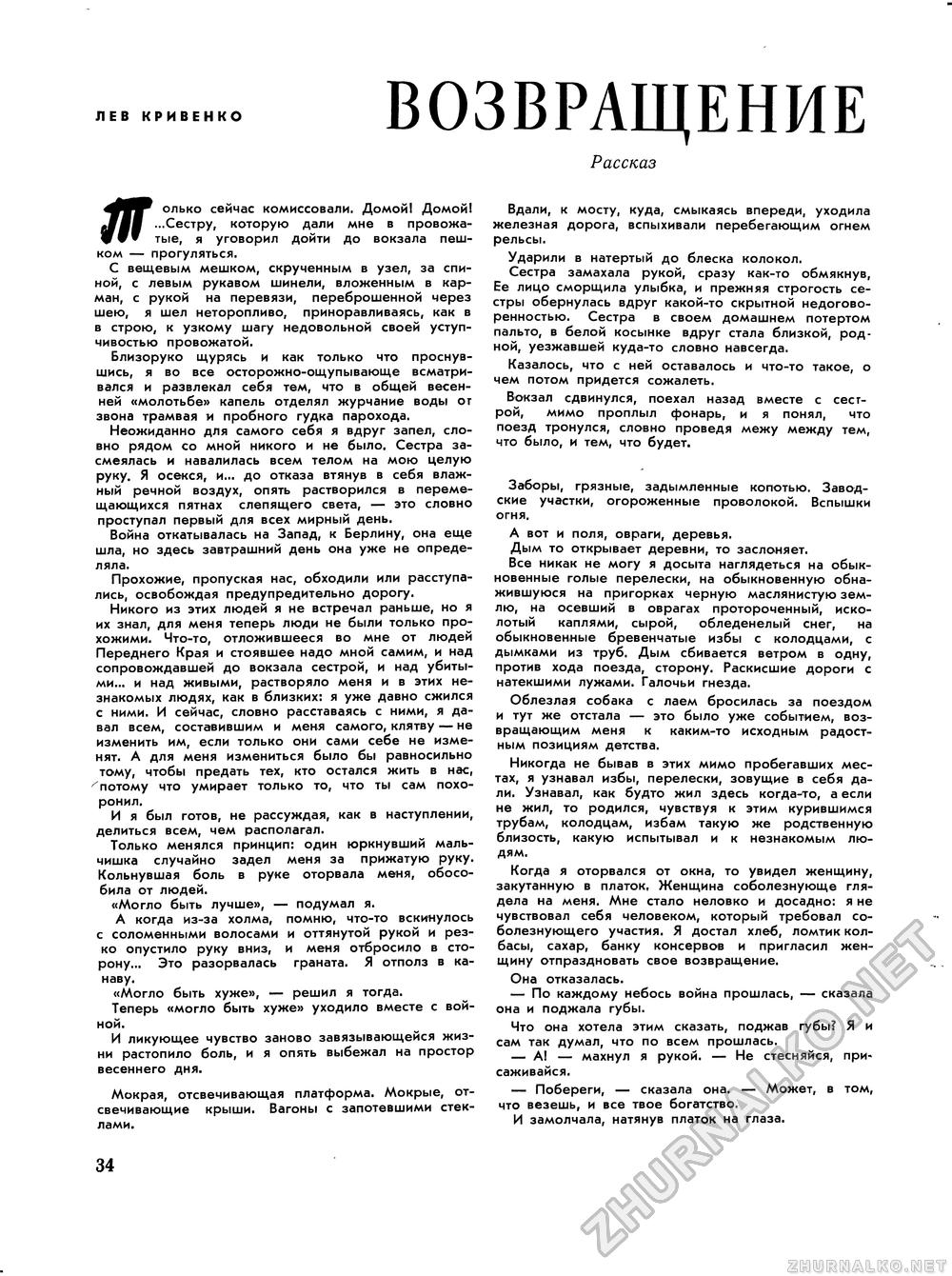
ВОЗВРАЩЕНИЕРассказ олько сейчас комиссовали. Домой! Домой! ...Сестру, которую дали мне в провожатые, я уговорил дойти до вокзала пешком — прогуляться. С вещевым мешком, скрученным в узел, за спиной, с левым рукавом шинели, вложенным в карман, с рукой на перевязи, переброшенной через шею, я шел неторопливо, приноравливаясь, как в в строю, к узкому шагу недовольной своей уступчивостью провожатой. Близоруко щурясь и как только что проснувшись, я во все осторожно-ощупывающе всматривался и развлекал себя тем, что в общей весенней «молотьбе» капель отделял журчание воды ог звона трамвая и пробного гудка парохода. Неожиданно для самого себя я вдруг запел, словно рядом со мной никого и не было. Сестра засмеялась и навалилась всем телом на мою целую руку. Я осекся, и... до отказа втянув в себя влажный речной воздух, опять растворился в перемещающихся пятнах слепящего света, — это словно проступал первый для всех мирный день. Война откатывалась на Запад, к Берлину, она еще шла, но здесь завтрашний день она уже не определяла. Прохожие, пропуская нас, обходили или расступались, освобождая предупредительно дорогу. Никого из этих людей я не встречал раньше, но я их знал, для меня теперь люди не были только прохожими. Что-то, отложившееся во мне от людей Переднего Края и стоявшее надо мной самим, и над сопровождавшей до вокзала сестрой, и над убитыми... и над живыми, растворяло меня и в этих незнакомых людях, как в близких: я уже давно сжился с ними. И сейчас, словно расставаясь с ними, я давал всем, составившим и меня самого, клятву — не изменить им, если только они сами себе не изменят. А для меня измениться было бы равносильно тому, чтобы предать тех, кто остался жить в нас, ^ потому что умирает только то, что ты сам похоронил. И я был готов, не рассуждая, как в наступлении, делиться всем, чем располагал. Только менялся принцип: один юркнувший мальчишка случайно задел меня за прижатую руку. Кольнувшая боль в руке оторвала меня, обособила от людей. «Могло быть лучше», — подумал я. А когда из-за холма, помню, что-то вскинулось с соломенными волосами и оттянутой рукой и резко опустило руку вниз, и меня отбросило в сторону... Это разорвалась граната. Я отполз в канаву. «Могло быть хуже», — решил я тогда. Теперь «могло быть хуже» уходило вместе с вой-ной. И ликующее чувство заново завязывающейся жизни растопило боль, и я опять выбежал на простор весеннего дня. Мокрая, отсвечивающая платформа. Мокрые, отсвечивающие крыши. Вагоны с запотевшими стеклами. Вдали, к мосту, куда, смыкаясь впереди, уходила железная дорога, вспыхивали перебегающим огнем рельсы. Ударили в натертый до блеска колокол. Сестра замахала рукой, сразу как-то обмякнув, Ее лицо сморщила улыбка, и прежняя строгость сестры обернулась вдруг какой-то скрытной недоговоренностью. Сестра в своем домашнем потертом пальто, в белой косынке вдруг стала близкой, родной, уезжавшей куда-то словно навсегда. Казалось, что с ней оставалось и что-то такое, о чем потом придется сожалеть. Вокзал сдвинулся, поехал назад вместе с сестрой, мимо проплыл фонарь, и я понял, что поезд тронулся, славно проведя межу между тем, что было, и тем, что будет. Заборы, грязные, задымленные копотью. Заводские участки, огороженные проволокой. Вспышки огня. А вот и поля, овраги, деревья. Дым то открывает деревни, то заслоняет. Все никак не могу я досыта наглядеться на обыкновенные голые перелески, на обыкновенную обнажившуюся на пригорках черную маслянистую землю, на осевший в оврагах просроченный, исколотый каплями, сырой, обледенелый снег, на обыкновенные бревенчатые избы с колодцами, с дымками из труб. Дым сбивается ветром в одну, против хода поезда, сторону. Раскисшие дороги с натекшими лужами. Галочьи гнезда. Облезлая собака с лаем бросилась за поездом и тут же отстала — это было уже событием, возвращающим меня к каким-то исходным радостным позициям детства. Никогда не бывав в этих мимо пробегавших местах, я узнавал избы, перелески, зовущие в себя дали. Узнавал, как будто жил здесь когда-то, а если не жил, то родился, чувствуя к этим курившимся трубам, колодцам, избам такую же родственную близость, какую испытывал и к незнакомым людям. Когда я оторвался от окна, то увидел женщину, закутанную в платок, Женщина соболезнующе глядела на меня. Мне стало неловко и досадно: я не чувствовал себя человеком, который требовал соболезнующего участия. Я достал хлеб, ломтик колбасы, сахар, банку консервов и пригласил женщину отпраздновать свое возвращение. Она отказалась. — По каждому небось война прошлась, — сказала она и поджала губы. Что она хотела этим сказать, поджав губы? Я и сам так думал, что по всем прошлась. — А! — махнул я рукой. — Не стесняйся, присаживайся. — Побереги, — сказала она. — Может, в том, что везешь, и все твое богатство. И замолчала, натянув платок на глаза. 34 |








