Вокруг света 1971-09, страница 37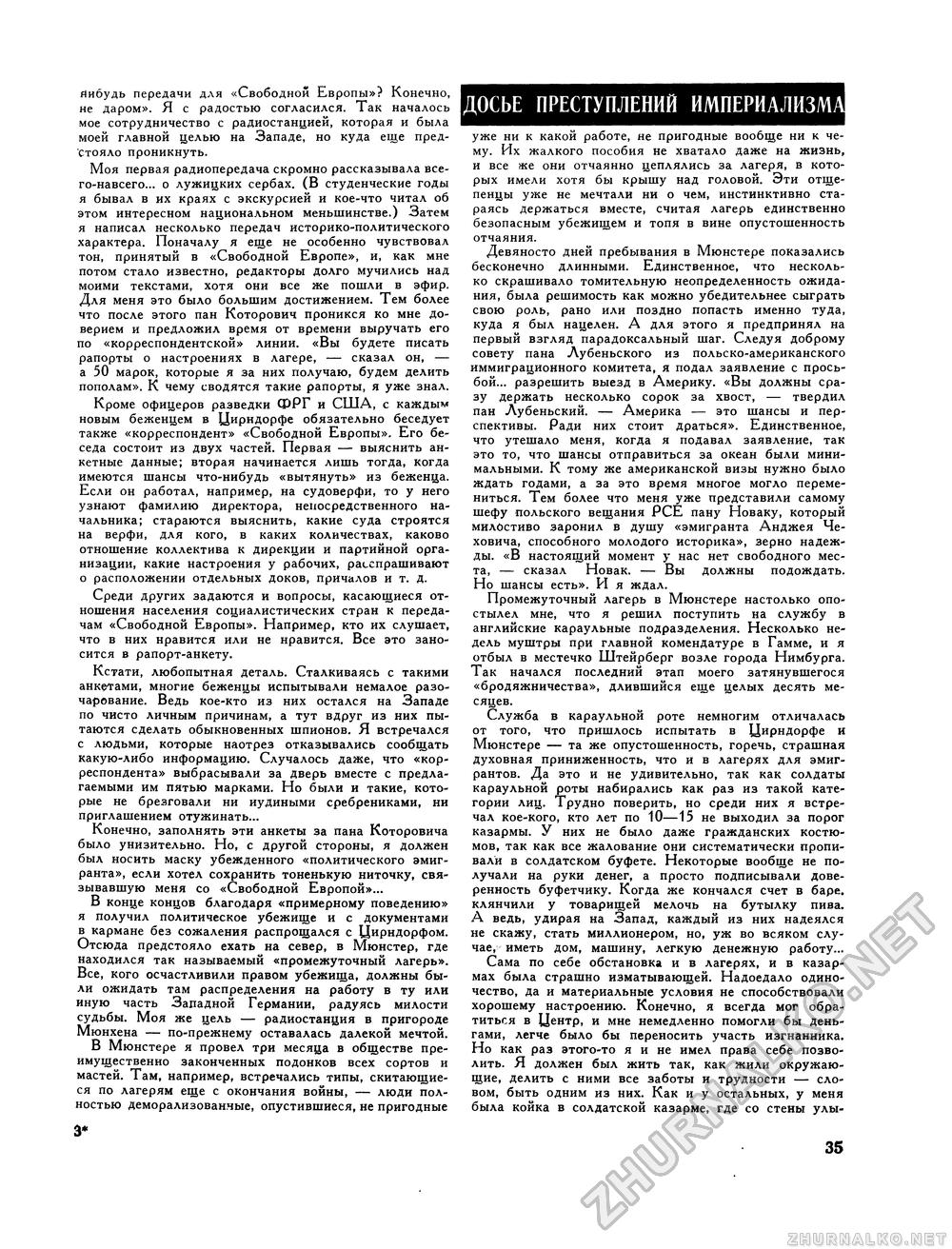
ДОСЬЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ИМПЕРИАЛИЗМА Дибудь передачи для «Свободной Европы»? Конечно, не даром». Я с радостью согласился. Так началось мое сотрудничество с радиостанцией, которая и была моей главной целью на Западе, но куда еще предстояло проникнуть. Моя первая радиопередача скромно рассказывала все-го-навсего... о лужицких сербах. (В студенческие годы я бывал в их краях с экскурсией и кое-что читал об этом интересном национальном меньшинстве.) Затем я написал несколько передач историко-политического характера. Поначалу я еще не особенно чувствовал тон, принятый в «Свободной Европе», и, как мне потом стало известно, редакторы долго мучились над моими текстами, хотя они все же пошли в эфир. Для меня это было большим достижением. Тем более что после этого пан Которович проникся ко мне доверием и предложил время от времени выручать его по «корреспондентской» линии. «Вы будете писать рапорты о настроениях в лагере, — сказал он, — а 50 марок, которые я за них получаю, будем делить пополам». К чему сводятся такие рапорты, я уже знал. Кроме офицеров разведки ФРГ и США, с каждым новым беженцем в Цирндорфе обязательно беседует также «корреспондент» «Свободной Европы». Его беседа состоит из двух частей. Первая — выяснить анкетные данные; вторая начинается лишь тогда, когда имеются шансы что-нибудь «вытянуть» из беженца. Если он работал, например, на судоверфи, то у него узнают фамилию директора, непосредственного начальника; стараются выяснить, какие суда строятся на верфи, для кого, в каких количествах, каково отношение коллектива к дирекции и партийной организации, какие настроения у рабочих, расспрашивают о расположении отдельных доков, причалов и т. д. Среди других задаются и вопросы, касающиеся отношения населения социалистических стран к передачам «Свободной Европы». Например, кто их слушает, что в них нравится или не нравится. Все это заносится в рапорт-анкету. Кстати, любопытная деталь. Сталкиваясь с такими анкетами, многие беженцы испытывали немалое разочарование. Ведь кое-кто из них остался на Западе по чисто личным причинам, а тут вдруг из них пытаются сделать обыкновенных шпионов. Я встречался с людьми, которые наотрез отказывались сообщать какую-либо информацию. Случалось даже, что «корреспондента» выбрасывали за дверь вместе с предлагаемыми им пятью марками. Но были и такие, которые не брезговали ни иудиными сребрениками, ни приглашением отужинать... Конечно, заполнять эти анкеты за пана Которовича было унизительно. Но, с другой стороны, я должен был носить маску убежденного «политического эмигранта», если хотел сохранить тоненькую ниточку, связывавшую меня со «Свободной Европой»... В конце концов благодаря «примерному поведению» я получил политическое убежище и с документами в кармане без сожаления распрощался с Цирндорфом. Отсюда предстояло ехать на север, в Мюнстер, где находился так называемый «промежуточный лагерь». Все, кого осчастливили правом убежища, должны были ожидать там распределения на работу в ту или иную часть Западной Германии, радуясь милости судьбы. Моя же цель — радиостанция в пригороде Мюнхена — по-прежнему оставалась далекой мечтой. В Мюнстере я провел три месяца в обществе преимущественно законченных подонков всех сортов и мастей. Там, например, встречались типы, скитающиеся по лагерям еще с окончания войны, — люди полностью деморализованные, опустившиеся, не пригодные 3* уже ни к какой работе, не пригодные вообще ни к чему. Их жалкого пособия не хватало даже на жизнь, и все же они отчаянно цеплялись за лагеря, в которых имели хотя бы крышу над головой. Эти отщепенцы уже не мечтали ни о чем, инстинктивно стараясь держаться вместе, считая лагерь единственно безопасным убежищем и топя в вине опустошенность отчаяния. Девяносто дней пребывания в Мюнстере показались бесконечно длинными. Единственное, что несколько скрашивало томительную неопределенность ожидания, была решимость как можно убедительнее сыграть свою роль, рано или поздно попасть именно туда, куда я был нацелен. А для этого я предпринял на первый взгляд парадоксальный шаг. Следуя доброму совету пана Лубеньского из польско-американского иммиграционного комитета, я подал заявление с просьбой... разрешить выезд в Америку. «Вы должны сразу держать несколько сорок за хвост, — твердил пан Лубеньский. — Америка — это шансы и перспективы. Ради них стоит драться». Единственное, что утешало меня, когда я подавал заявление, так это то, что шансы отправиться за океан были минимальными. К тому же американской визы нужно было ждать годами, а за это время многое могло перемениться. Тем более что меня уже представили самому шефу польского вещания РСЕ пану Новаку, который милостиво заронил в душу «эмигранта Анджея Че-ховича, способного молодого историка», зерно надежды. «В настоящий момент у нас нет свободного места, — сказал Новак. — Вы должны подождать. Но шансы есть». И я ждал. Промежуточный лагерь в Мюнстере настолько опостылел мне, что я решил поступить на службу в английские караульные подразделения. Несколько недель муштры при главной комендатуре в Гамме, и я отбыл в местечко Штейрберг возле города Нимбурга. Так начался последний этап моего затянувшегося «бродяжничества», длившийся еще целых десять месяцев. Служба в караульной роте немногим отличалась от того, что пришлось испытать в Цирндорфе и Мюнстере — та же опустошенность, горечь, страшная духовная приниженность, что и в лагерях для эмигрантов. Да это и не удивительно, так как солдаты караульной роты набирались как раз из такой категории лиц. Трудно поверить, но среди них я встречал кое-кого, кто лет по 10—15 не выходил за порог казармы. У них не было даже гражданских костюмов, так как все жалование они систематически пропивали в солдатском буфете. Некоторые вообще не получали на руки денег, а просто подписывали доверенность буфетчику. Когда же кончался счет в баре, клянчили у товарищей мелочь на бутылку пива. А ведь, удирая на Запад, каждый из них надеялся не скажу, стать миллионером, но, уж во всяком случае, иметь дом, машину, легкую денежную работу... Сама по себе обстановка и в лагерях, и в казармах была страшно изматывающей. Надоедало одиночество, да и материальные условия не способствовали хорошему настроению. Конечно, я всегда мог обратиться в Центр, и мне немедленно помогли бы деньгами, легче было бы переносить участь изгнанника. Но как раз этого-то я и не имел права себе позволить. Я должен был жить так, как жили окружающие, делить с ними все заботы и трудности — словом, быть одним из них. Как и у остальных, у меня была койка в солдатской казарме, где со стены улы 35 |








