Вокруг света 1976-05, страница 8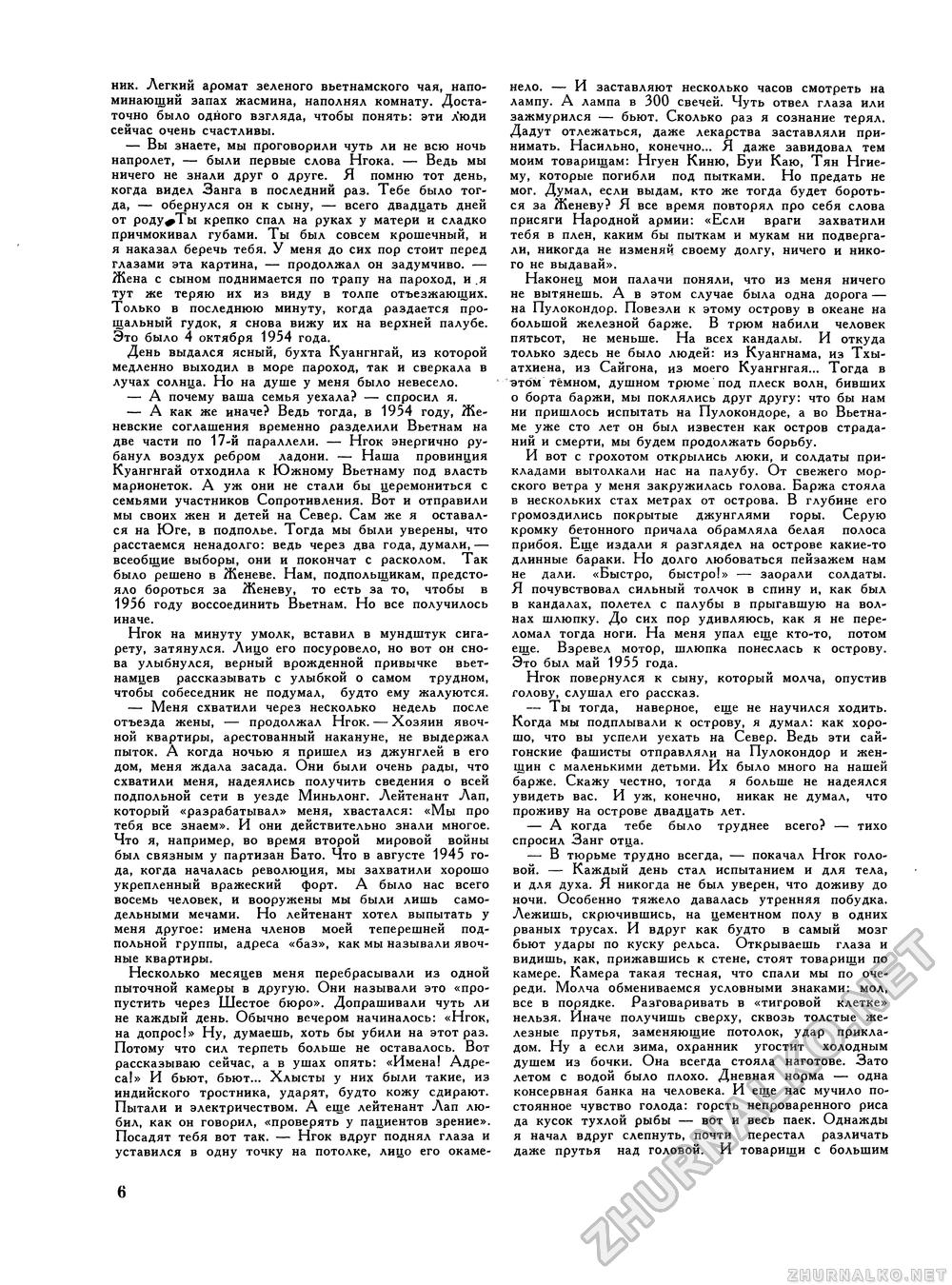
ник. Легкий аромат зеленого вьетнамского чая, напоминающий запах жасмина, наполнял комнату. Достаточно было одного взгляда, чтобы понять: эти л'юди сейчас очень счастливы. — Вы знаете, мы проговорили чуть ли не всю ночь напролет, — были первые слова Нгока. — Ведь мы ничего не знали друг о друге. Я помню тот день, когда видел Занга в последний раз. Тебе было тогда, — обернулся он к сыну, — всего двадцать дней от роду^Ты крепко спал на руках у матери и сладко причмокивал губами. Ты был совсем крошечный, и я наказал беречь тебя. У меня до сих пор стоит перед глазами эта картина, — продолжал он задумчиво. — Жена с сыном поднимается по трапу на пароход, и .я тут же теряю их из виду в толпе отъезжающих. Только в последнюю минуту, когда раздается прощальный гудок, я снова вижу их на верхней палубе. Это было 4 октября 1954 года. День выдался ясный, бухта Куангнгай, из которой медленно выходил в море пароход, так и сверкала в лучах солнца. Но на душе у меня было невесело. — А почему ваша семья уехала? — спросил я. — А как же иначе? Ведь тогда, в 1954 году, Женевские соглашения временно разделили Вьетнам на две части по 17-й параллели. — Нгок энергично рубанул воздух ребром ладони. — Наша провинция Куангнгай отходила к Южному Вьетнаму под власть марионеток. А уж они не стали бы церемониться с семьями участников Сопротивления. Вот и отправили мы своих жен и детей на Север. Сам же я оставался на Юге, в подполье. Тогда мы были уверены, что расстаемся ненадолго: ведь через два года, думали,— всеобщие выборы, они и покончат с расколом. Так было решено в Женеве. Нам, подпольщикам, предстояло бороться за Женеву, то есть за то, чтобы в 1956 году воссоединить Вьетнам. Но все получилось иначе. Нгок на минуту умолк, вставил в мундштук сигарету, затянулся. Лицо его посуровело, но вот он снова улыбнулся, верный врожденной привычке вьетнамцев рассказывать с улыбкой о самом трудном, чтобы собеседник не подумал, будто ему жалуются. — Меня схватили через несколько недель после отъезда жены, — продолжал Нгок. — Хозяин явочной квартиры, арестованный накануне, не выдержал пыток. А когда ночью я пришел из джунглей в его дом, меня ждала засада. Они были очень рады, что схватили меня, надеялись получить сведения о всей подпольной сети в уезде Миньлонг. Лейтенант Лап, который «разрабатывал» меня, хвастался: «Мы про тебя все знаем». И они действительно знали многое. Что я, например, во время второй мировой войны был связным у партизан Бато. Что в августе 1945 года, когда началась революция, мы захватили хорошо укрепленный вражеский форт. А было нас всего восемь человек, и вооружены мы были лишь самодельными мечами. Но лейтенант хотел выпытать у меня другое: имена членов моей теперешней подпольной группы, адреса «баз», как мы называли явочные квартиры. Несколько месяцев меня перебрасывали из одной пыточной камеры в другую. Они называли это «пропустить через Шестое бюро». Допрашивали чуть ли не каждый день. Обычно вечером начиналось: «Нгок, на допрос!» Ну, думаешь, хоть бы убили на этот раз. Потому что сил терпеть больше не оставалось. Вот рассказываю сейчас, а в ушах опять: «Имена! Адреса!» И бьют, бьют... Хлысты у них были такие, из индийского тростника, ударят, будто кожу сдирают. Пытали и электричеством. А еще лейтенант Лап любил, как он говорил, «проверять у пациентов зрение». Посадят тебя вот так. — Нгок вдруг поднял глаза и уставился в одну точку на потолке, лицо его окаме нело. — И заставляют несколько часов смотреть на лампу. А лампа в 300 свечей. Чуть отвел глаза или зажмурился — бьют. Сколько раз я сознание терял. Дадут отлежаться, даже лекарства заставляли принимать. Насильно, конечно... Я даже завидовал тем моим товарищам: Нгуен Киню, Буи Каю, Тян Нгие-му, которые погибли под пытками. Но предать не мог. Думал, если выдам, кто же тогда будет бороться за Женеву? Я все время повторял про себя слова присяги Народной армии: «Если враги захватили тебя в плен, каким бы пыткам и мукам ни подвергали, никогда не изменяй своему долгу, ничего и никого не выдавай». Наконец мои палачи поняли, что из меня ничего не вытянешь. А в этом случае была одна дорога — на Пулокондор. Повезли к этому острову в океане на большой железной барже. В трюм набили человек пятьсот, не меньше. На всех кандалы. И откуда только здесь не было людей: из Куангнама, из Тхы-атхиена, из Сайгона, из моего Куангнгая... Тогда в этом Тёмном, душном трюме под плеск волн, бивших о борта баржи, мы поклялись друг другу: что бы нам ни пришлось испытать на Пулокондоре, а во Вьетнаме уже сто лет он был известен как остров страданий и смерти, мы будем продолжать борьбу. И вот с грохотом открылись люки, и солдаты прикладами вытолкали нас на палубу. От свежего морского ветра у меня закружилась голова. Баржа стояла в нескольких стах метрах от острова. В глубине его громоздились покрытые джунглями горы. Серую кромку бетонного причала обрамляла белая полоса прибоя. Еще издали я разглядел на острове какие-то длинные бараки. Но долго любоваться пейзажем нам не дали. «Быстро, быстро!» — заорали солдаты. Я почувствовал сильный толчок в спину и, как был в кандалах, полетел с палубы в прыгавшую на волнах шлюпку. До сих пор удивляюсь, как я не переломал тогда ноги. На меня упал еще кто-то, потом еще. Взревел мотор, шлюпка понеслась к острову. Это был май 1955 года. Нгок повернулся к сыну, который молча, опустив голову, слушал его рассказ. — Ты тогда, наверное, еще не научился ходить. Когда мы подплывали к острову, я думал: как хорошо, что вы успели уехать на Север. Ведь эти сай-гонские фашисты отправляли на Пулокондор и женщин с маленькими детьми. Их было много на нашей барже. Скажу честно, тогда я больше не надеялся увидеть вас. И уж, конечно, никак не думал, что проживу на острове двадцать лет. — А когда тебе было труднее всего? — тихо спросил Занг отца. — В тюрьме трудно всегда, — покачал Нгок головой. — Каждый день стал испытанием и для тела, и для духа. Я никогда не был уверен, что доживу до ночи. Особенно тяжело давалась утренняя побудка. Лежишь, скрючившись, на цементном полу в одних рваных трусах. И вдруг как будто в самый мозг бьют удары по куску рельса. Открываешь глаза и видишь, как, прижавшись к стене, стоят товарищи по камере. Камера такая тесная, что спали мы по очереди. Молча обмениваемся условными знаками: мол, все в порядке. Разговаривать в «тигровой клетке» нельзя. Иначе получишь сверху, сквозь толстые железные прутья, заменяющие потолок, удар прикладом. Ну а если зима, охранник угостит холодным душем из бочки. Она всегда стояла наготове. Зато летом с водой было плохо. Дневная норма — одна консервная банка на человека. И еще нас мучило постоянное чувство голода: горсть непроваренного риса да кусок тухлой рыбы — вот и весь паек. Однажды я начал вдруг слепнуть, почти перестал различать даже прутья над головой. И товарищи с большим 6 |








