Юный Натуралист 1988-08, страница 45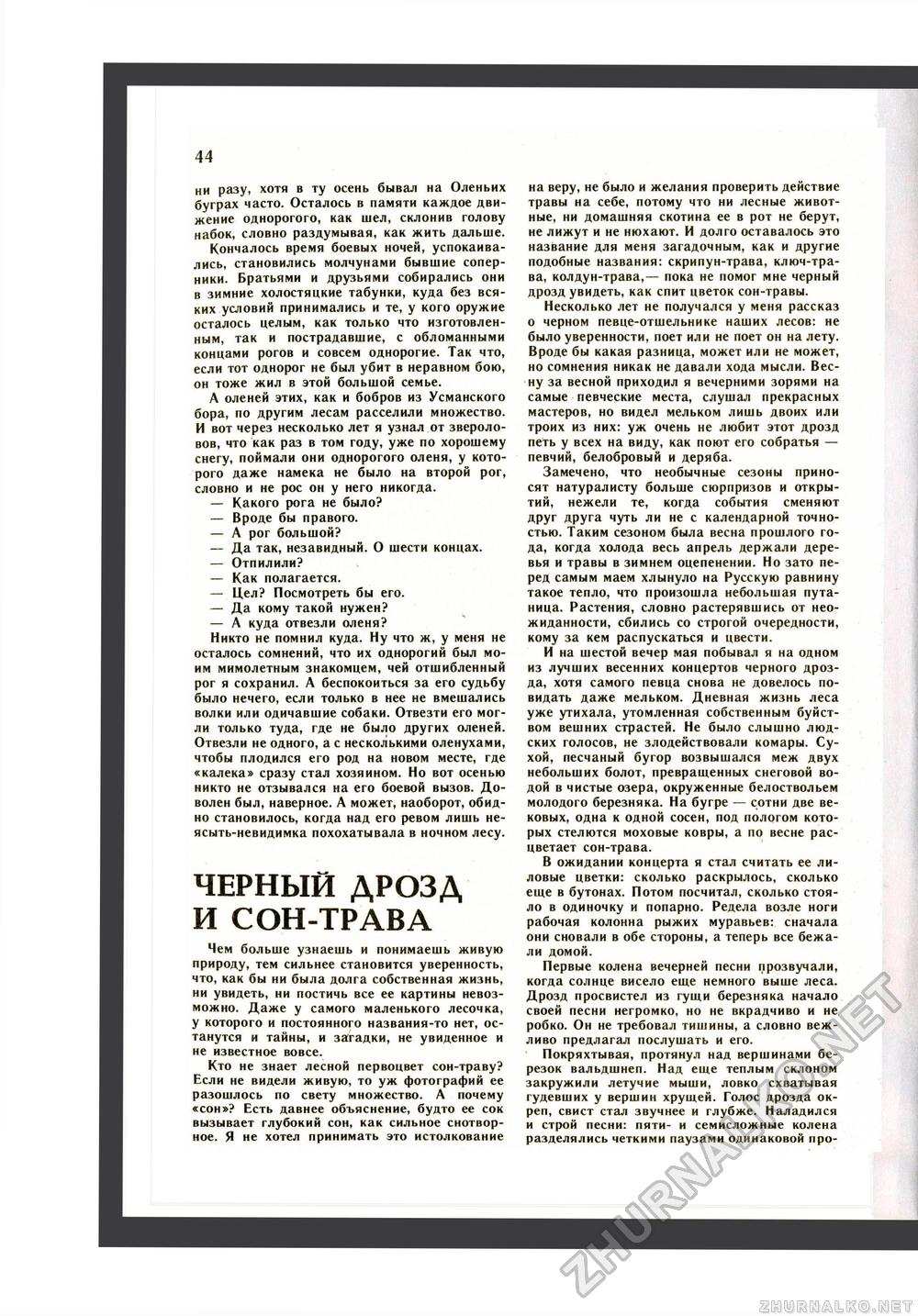
44 ни разу, хотя в ту осень бывал на Оленьих буграх часто. Осталось в памяти каждое движение однорогого, как шел, склонив голову набок, словно раздумывая, как жить дальше. Кончалось время боевых ночей, успокаивались, становились молчунами бывшие соперники. Братьями и друзьями собирались они в зимние холостяцкие табунки, куда без всяких условий принимались и те, у кого оружие осталось целым, как только что изготовленным, так и пострадавшие, с обломанными концами рогов и совсем однорогие. Так что, если тот однорог не был убит в неравном бою, он тоже жил в этой большой семье. А оленей этих, как и бобров из Усманского бора, по другим лесам расселили множество. И вот через несколько лет я узнал от звероловов, что как раз в том году, уже по хорошему снегу, поймали они однорогого оленя, у которого даже намека не было на второй рог, словно и не рос он у него никогда. — Какого рога не было? — Вроде бы правого. — А рог большой? — Да так, незавидный. О шести концах. — Отпилили? — Как полагается. — Цел? Посмотреть бы его. — Да кому такой нужен? — А куда отвезли оленя? Никто не помнил куда. Ну что ж, у меня не осталось сомнений, что их однорогий был моим мимолетным знакомцем, чей отшибленный рог я сохранил. А беспокоиться за его судьбу было нечего, если только в нее не вмешались волки или одичавшие собаки. Отвезти его могли только туда, где не было других оленей. Отвезли не одного, а с несколькими оленухами, чтобы плодился его род на новом месте, где «калека» сразу стал хозяином. Но вот осенью никто не отзывался на его боевой вызов. Доволен был, наверное. А может, наоборот, обидно становилось, когда над его ревом лишь не-ясыть-невидимка похохатывала в ночном лесу. ЧЕРНЫЙ ДРОЗД И СОН-ТРАВА Чем больше узнаешь и понимаешь живую природу, тем сильнее становится уверенность, что, как бы ни была долга собственная жизнь, ни увидеть, ни постичь все ее картины невозможно. Даже у самого маленького лесочка, у которого и постоянного названия-то нет, останутся и тайны, и загадки, не увиденное и не известное вовсе. Кто не знает лесной первоцвет сон-траву? Если не видели живую, то уж фотографий ее разошлось по свету множество. А почему «сон»? Есть давнее объяснение, будто ее сок вызывает глубокий сон, как сильное снотворное. Я не хотел принимать это истолкование на веру, не было и желания проверить действие травы на себе, потому что ни лесные животные, ни домашняя скотина ее в рот не берут, не лижут и не нюхают. И долго оставалось это название для меня загадочным, как и другие подобные названия: скрипун-трава, ключ-тра-ва, колдун-трава,— пока не помог мне черный дрозд увидеть, как спит цветок сон-травы. Несколько лет не получался у меня рассказ о черном певце-отшельнике наших лесов: не было уверенности, поет или не поет он на лету. Вроде бы какая разница, может или не может, но сомнения никак не давали хода мысли. Весну за весной приходил я вечерними зорями на самые певческие места, слушал прекрасных мастеров, но видел мельком лишь двоих или троих из них: уж очень не любит этот дрозд петь у всех на виду, как поют его собратья — певчий, белобровый и деряба. Замечено, что необычные сезоны приносят натуралисту больше сюрпризов и открытий, нежели те, когда события сменяют друг друга чуть ли не с календарной точностью. Таким сезоном была весна прошлого года, когда холода весь апрель держали деревья и травы в зимнем оцепенении. Но зато перед самым маем хлынуло на Русскую равнину такое тепло, что произошла небольшая путаница. Растения, словно растерявшись от неожиданности, сбились со строгой очередности, кому за кем распускаться и цвести. И на шестой вечер мая побывал я на одном из лучших весенних концертов черного дрозда, хотя самого певца снова не довелось повидать даже мельком. Дневная жизнь леса уже утихала, утомленная собственным буйством вешних страстей. Не было слышно людских голосов, не злодействовали комары. Сухой, песчаный бугор возвышался меж двух небольших болот, превращенных снеговой водой в чистые озера, окруженные белоствольем молодого березняка. На бугре — сотни две вековых, одна к одной сосен, под пологом которых стелются моховые ковры, а по весне расцветает сон-трава. В ожидании концерта я стал считать ее лиловые цветки: сколько раскрылось, сколько еще в бутонах. Потом посчитал, сколько стояло в одиночку и попарно. Редела возле ноги рабочая колонна рыжих муравьев: сначала они сновали в обе стороны, а теперь все бежали домой. Первые колена вечерней песни прозвучали, когда солнце висело еще немного выше леса. Дрозд просвистел из гущи березняка начало своей песни негромко, но не вкрадчиво и не робко. Он не требовал тишины, а словно вежливо предлагал послушать и его. Покряхтывая, протянул над вершинами березок вальдшнеп. Над еще теплым склоном закружили летучие мыши, ловко схватывая гудевших у вершин хрущей. Голос дрозда окреп, свист стал звучнее и глубже. Наладился и строй песни: пяти- и семисложные колена разделялись четкими паузами одинаковой про- |








