Костёр 1969-07, страница 40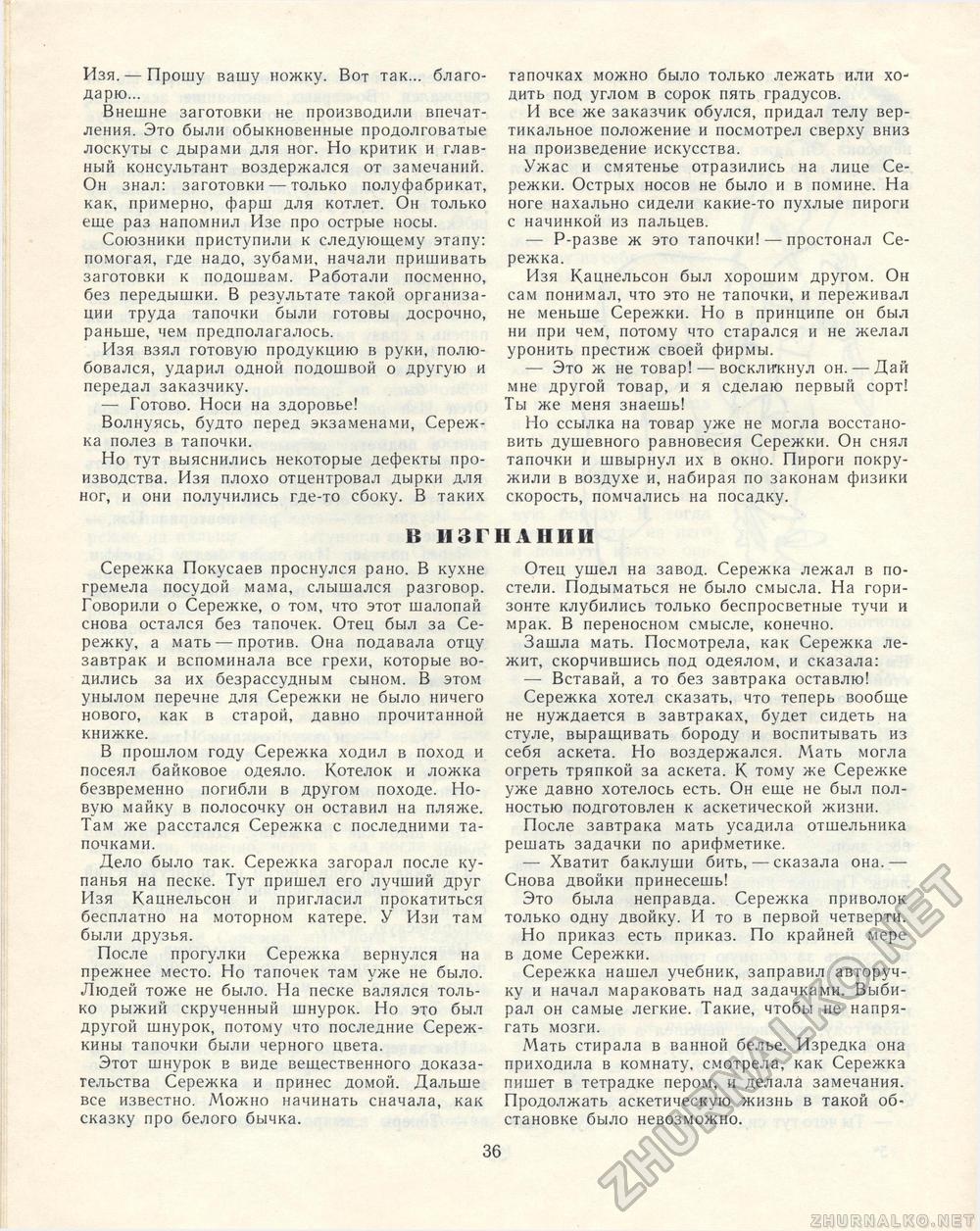
Изя.— Прошу вашу ножку. Вот так... благодарю... Внешне заготовки не производили впечатления. Это были обыкновенные продолговатые лоскуты с дырами для ног. Но критик и главный консультант воздержался от замечаний. Он знал: заготовки — только полуфабрикат, как, примерно, фарш для котлет. Он только еще раз напомнил Изе про острые носы. Союзники приступили к следующему этапу: помогая, где надо, зубами, начали пришивать заготовки к подошвам. Работали посменно, без передышки. В результате такой организации труда тапочки были готовы досрочно, раньше, чем предполагалось. Изя взял готовую продукцию в руки, полюбовался, ударил одной подошвой о другую и передал заказчику. — Готово. Носи на здоровье! Волнуясь, будто перед экзаменами, Сережка полез в тапочки. Но тут выяснились некоторые дефекты производства. Изя плохо отцентровал дырки для ног, и они получились где-то сбоку. В таких тапочках можно было только лежать или ходить под углом в сорок пять градусов. И все же заказчик обулся, придал телу вертикальное положение и посмотрел сверху вниз на произведение искусства. Ужас и смятенье отразились на лице Сережки. Острых носов не было и в помине. На ноге нахально сидели какие-то пухлые пироги с начинкой из пальцев. — Р-разве ж это тапочки! — простонал Сережка. Изя Кацнельсон был хорошим другом. Он сам понимал, что это не тапочки, и переживал не меньше Сережки. Но в принципе он был ни при чем, потому что старался и не желал уронить престиж своей фирмы. — Это ж не товар! — воскликнул он. — Дай мне другой товар, и я сделаю первый сорт! Ты же меня знаешь! Но ссылка на товар уже не могла восстановить душевного равновесия Сережки. Он снял тапочки и швырнул их в окно. Пироги покружили в воздухе и, набирая по законам физики скорость, помчались на посадку. В ИЗГНАНИИ Сережка Покусаев проснулся рано. В кухне гремела посудой мама, слышался разговор. Говорили о Сережке, о том, что этот шалопай снова остался без тапочек. Отец был за Сережку, а мать — против. Она подавала отцу завтрак и вспоминала все грехи, которые водились за их безрассудным сыном. В этом унылом перечне для Сережки не было ничего нового, как в старой, давно прочитанной книжке. В прошлом году Сережка ходил в поход и посеял байковое одеяло. Котелок и ложка безвременно погибли в другом походе. Новую майку в полосочку он оставил на пляже. Там же расстался Сережка с последними тапочками. Дело было так. Сережка загорал после купанья на песке. Тут пришел его лучший друг Изя Кацнельсон и пригласил прокатиться бесплатно на моторном катере. У Изи там были друзья. После прогулки Сережка вернулся на прежнее место. Но тапочек там уже не было. Людей тоже не было. На песке валялся только рыжий скрученный шнурок. Но это был другой шнурок, потому что последние Сереж-кины тапочки были черного цвета. Этот шнурок в виде вещественного доказательства Сережка и принес домой. Дальше все известно. Можно начинать сначала, как сказку про белого бычка. Отец ушел на завод. Сережка лежал в постели. Подыматься не было смысла. На горизонте клубились только беспросветные тучи и мрак. В переносном смысле, конечно. Зашла мать. Посмотрела, как Сережка лежит, скорчившись под одеялом, и сказала: — Вставай, а то без завтрака оставлю! Сережка хотел сказать, что теперь вообще не нуждается в завтраках, будет сидеть на стуле, выращивать бороду и воспитывать из себя аскета. Но воздержался. Мать могла огреть тряпкой за аскета. К тому же Сережке уже давно хотелось есть. Он еще не был полностью подготовлен к аскетической жизни. После завтрака мать усадила отшельника решать задачки по арифметике. — Хватит баклуши бить, — сказала она.— Снова двойки принесешь! Это была неправда. Сережка приволок только одну двойку. И то в первой четверти. Но приказ есть приказ. По крайней мере в доме Сережки. Сережка нашел учебник, заправил авторучку и начал мараковать над задачками. Выбирал он самые легкие. Такие, чтобы не напрягать мозги. Мать стирала в ванной белье. Изредка она приходила в комнату, смотрела, как Сережка пишет в тетрадке пером, и делала замечания. Продолжать аскетическую жизнь в такой обстановке было невозможно. 36 |








