Костёр 1972-06, страница 45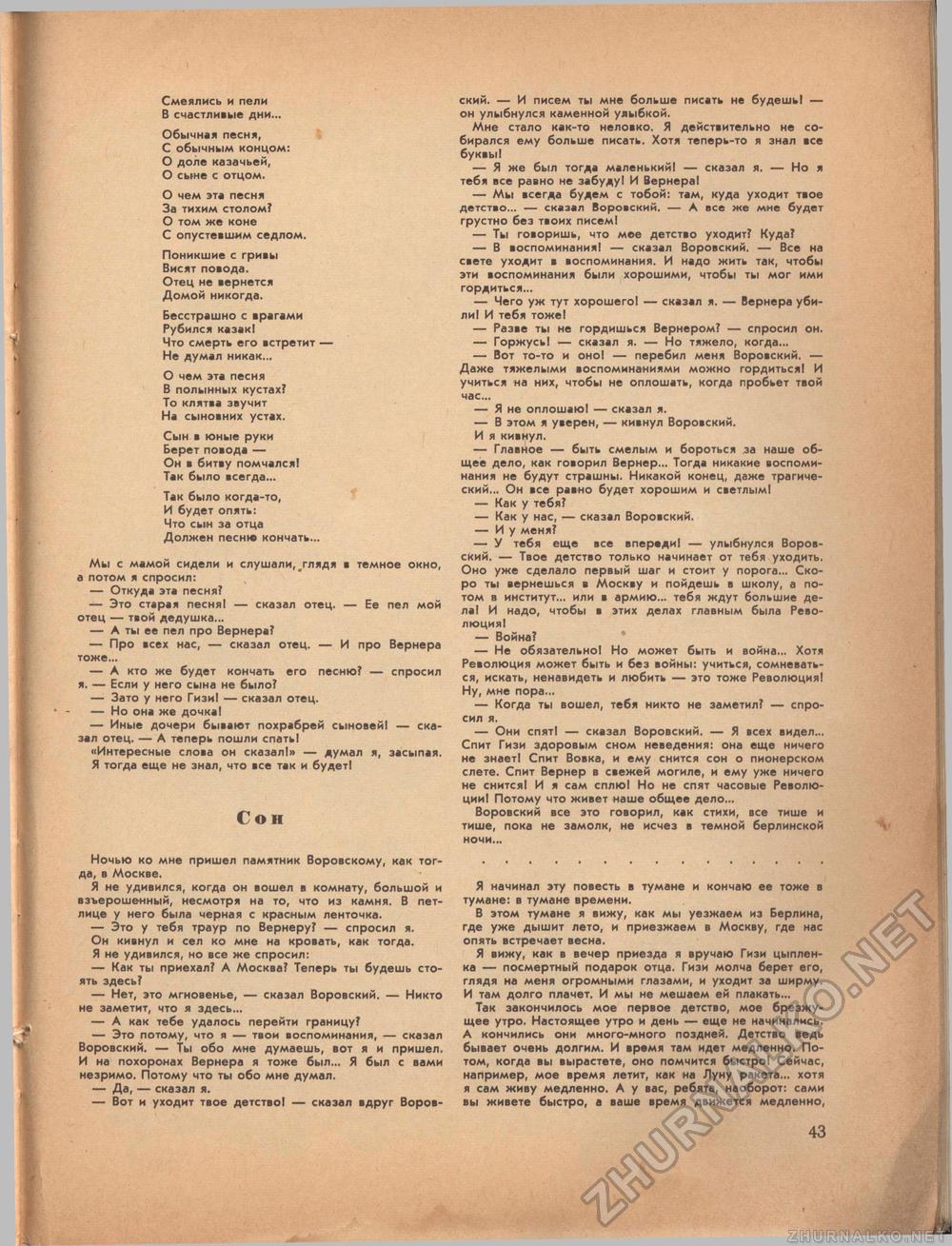
Смеялись и пели В счастливые дни... Обычная песня, С обычным концом: О доле казачьей, О сыне с отцом. О чем эта песня За тихим столом? О том же коне С опустевшим седлом. Поникшие с гривы Висят повода. Отец не вернется Домой никогда. Бесстрашно с врагами Рубился казак! Что смерть его встретит — Не думал никак... О чем эта песня В полынных кустах? То клятва звучит На сыновних устах. Сын в юные руки Берет повода — Он в битву помчался! Так было всегда- Так было когда-то, И будет опять: Что сын за отца Должен песню кончать... Мы с мамой сидели и слушали, г глядя в темное окно, а потом я спросил: — Откуда эта песня? — Это старая песня! — сказал отец. — Ее пел мой отец — твой дедушка... — А ты ее пел про Вернера? — Про всех нас, — сказал отец. — И про Вернера тоже... — А кто же будет кончать его песню? — спросил я. — Если у него сына не было? — Зато у него Гизи! — сказал отец. — Но она же дочка! — Иные дочери бывают похрабрей сыновей! — сказал отец. — А теперь пошли спать! «Интересные слова он сказал!» — думал я, засыпая. Я тогда еще не знал, что все так и будет! Сон Ночью ко мне пришел памятник Воровскому, как тогда, в Москве. Я не удивился, когда он вошел в комнату, большой и взъерошенный, несмотря на то, что из камня. В петлице у него была черная с красным ленточка. — Это у тебя траур по Вернеру? — спросил я. Он кивнул и сел ко мне на кровать, как тогда. Я не удивился, но все же спросил: — Как ты приехал? А Москва? Теперь ты будешь стоять здесь? — Нет, это мгновенье, — сказал Воровский. — Никто не заметит, что я здесь... — А как тебе удалось перейти границу? — Это потому, что я — твои воспоминания, — сказал Воровский. — Ты обо мне думаешь, вот я и пришел. И на похоронах Вернера я тоже был... Я был с вами незримо. Потому что ты обо мне думал. — Да, — сказал я. — Вот и уходит твое детство! — сказал вдруг Воров ский. — И писем ты мне больше писать не будешь! — он улыбнулся каменной улыбкой. Мне стало как-то неловко. Я действительно не собирался ему больше писать. Хотя теперь-то я знал все буквы! — Я же был тогда маленький! — сказал я. — Но я тебя все равно не забуду! И Вернера! — Мы всегда будем с тобой: там, куда уходит твое детство... — сказал Воровский. — А все же мне будет грустно без твоих писем! — Ты говоришь, что мее детство уходит? Куда? — В воспоминания! — сказал Воровский. — Все на свете уходит в воспоминания. И надо жить так, чтобы эти воспоминания были хорошими, чтобы ты мог ими гордиться... — Чего уж тут хорошего! — сказал я. — Вернера убили! И тебя тоже! — Разве ты не гордишься Вернером? — спросил он. — Горжусь! — сказал я. — Но тяжело, когда... — Вот то-то и оно! — перебил меня Воровский. — Даже тяжелыми воспоминаниями можно гордиться! И учиться на них, чтобы не оплошать, когда пробьет твой час... — Я не оплошаю! — сказал я. — В этом я уверен, — кивнул Воровский. И я кивнул. — Главное — быть смелым и бороться за наше общее дело, как говорил Вернер... Тогда никакие воспоминания не будут страшны. Никакой конец, даже трагический... Он все равно будет хорошим и светлым! — Как у тебя? — Как у нас, — сказал Воровский. — И у меня? — У тебя еще все впер*ди1 — улыбнулся Воровский. — Твое детство только начинает от тебя уходить. Оно уже сделало первый шаг и стоит у порога... Скоро ты вернешься в Москву и пойдешь в школу, а потом в институт... или в армию... тебя ждут большие дела! И надо, чтобы в этих делах главным была Революция! — Война? — Не обязательно! Но может быть и война... Хотя Революция может быть и без войны: учиться, сомневаться, искать, ненавидеть и любить — это тоже Революция! Ну, мне пора... — Когда ты вошел, тебя никто не заметил? — спросил я. — Они спят! — сказал Воровский. — Я всех видел-Спит Гизи здоровым сном неведения: она еще ничего не знает! Спит Вовка, и ему снится сон о пионерском слете. Спит Вернер в свежей могиле, и ему уже ничего не снится! И я сам сплю! Но не спят часовые Революции! Потому что живет наше общее дело... Воровский все это говорил, как стихи, все тише и тише, пока не замолк, не исчез в темной берлинской ночи... Я начинал эту повесть в тумане и кончаю ее тоже в тумане: в тумане времени. В этом тумане я вижу, как мы уезжаем из Берлина, где уже дышит лето, и приезжаем в Москву, где нас опять встречает весна. Я вижу, как в вечер приезда я вручаю Гизи цыпленка — посмертный подарок отца. Гизи молча берет его, глядя на меня огромными глазами, и уходит за ширму. И там долго плачет. И мы не мешаем ей плакать... Так закончилось мое первое детство, мое брезжу-щее утро. Настоящее утро и день — еще не начинались. А кончились они много-много поздней. Детство ведь бывает очень долгим. И время там идет медленно. Потом, когда вы вырастете, оно помчится быстро! Сейчас, например, мое время летит, как на Луну ракета... хотя я сам живу медленно. А у вас, ребята, наоборот: сами вы живете быстро, а ваше время движется медленно, 43 |








