Костёр 1972-10, страница 46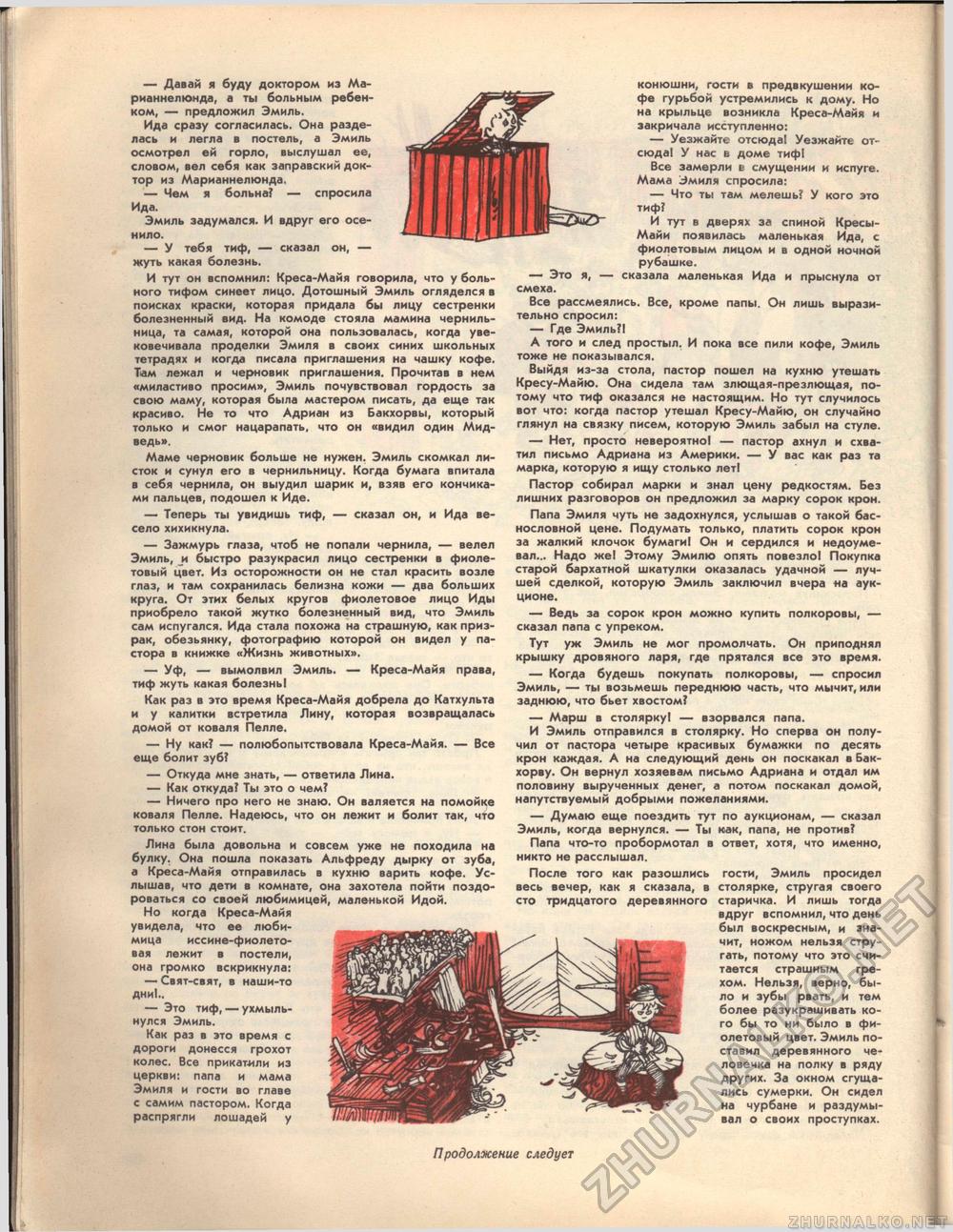
— Давай я буду доктором из Ма-рианнелюнда, а ты больным ребенком, — предложил Эмиль. Ида сразу согласилась. Она разделась и легла в постель, а Эмиль осмотрел ей горло, выслушал ее, словом, вел себя как заправский доктор из Марианнелюнда. — Чем я больна? — спросила Ида. Эмиль задумался. И вдруг его осенило. — У тебя тиф, — сказал он, — жуть какая болезнь. И тут он вспомнил: Креса-Майя говорила, что у больного тифом синеет лицо. Дотошный Эмиль огляделся в поисках краски, которая придала бы лицу сестренки болезненный вид. На комоде стояла мамина чернильница, та самая, которой она пользовалась, когда увековечивала проделки Эмиля в своих синих школьных тетрадях и когда писала приглашения на чашку кофе. Там лежал и черновик приглашения. Прочитав в нем «миластиво просим», Эмиль почувствовал гордость за свою маму, которая была мастером писать, да еще так красиво. Не то что Адриан из Бакхорвы, который только и смог нацарапать, что он «видил один Мид-ведь». Маме черновик больше не нужен. Эмиль скомкал листок и сунул его в чернильницу. Когда бумага впитала в себя чернила, он выудил шарик и, взяв его кончиками пальцев, подошел к Иде. — Теперь ты увидишь тиф, — сказал он, и Ида весело хихикнула. — Зажмурь глаза, чтоб не попали чернила, — велел Эмиль, и быстро разукрасил лицо сестренки в фиолетовый цвет. Из осторожности он не стал красить возле глаз, и там сохранилась белизна кожи — два больших круга. От этих белых кругов фиолетовое лицо Иды приобрело такой жутко болезненный вид, что Эмиль сам испугался. Ида стала похожа на страшную, как призрак, обезьянку, фотографию которой он видел у пастора в книжке «Жизнь животных». — Уф, — вымолвил Эмиль. — Креса-Майя права, тиф жуть какая болезнь! Как раз в это время Креса-Майя добрела до Катхульта и у калитки встретила Лину, которая возвращалась домой от коваля Пелле. — Ну как? — полюбопытствовала Креса-Майя. — Все еще болит зуб? — Откуда мне знать, — ответила Лина. — Как откуда? Ты это о чем? — Ничего про него не знаю. Он валяется на помойке коваля Пелле. Надеюсь, что он лежит и болит так, что только стон стоит. Лина была довольна и совсем уже не походила на булку. Она пошла показать Альфреду дырку от зуба, а Креса-Майя отправилась в кухню варить кофе. Услышав, что дети в комнате, она захотела пойти поздороваться со своей любимицей, маленькой Идой. Но когда Креса-Майя увидела, что ее любимица иссине-фиолето-вая лежит в постели, она громко вскрикнула: — Свят-свят, в наши-то дни!.. — Это тиф, — ухмыльнулся Эмиль. Как раз в это время с дороги донесся грохот колес. Все прикатили из церкви: папа и мама Эмиля и гости во главе с самим пастором. Когда распрягли лошадей у конюшни, гости в предвкушении кофе гурьбой устремились к дому. Но на крыльце возникла Креса-Майя и закричала исступленно: — Уезжайте отсюда! Уезжайте отсюда! У нас в доме тиф! Все замерли е> смущении и испуге. Мама Эмиля спросила: — Что ты там мелешь? У кого это тиф? И тут в дверях за спиной Кресы-Майи появилась маленькая Ида, с фиолетовым лицом и в одной ночной рубашке. — Это я, — сказала маленькая Ида и прыснула от смеха. Все рассмеялись. Все, кроме папы. Он лишь выразительно спросил: — Где Эмиль?! А того и след простыл. И пока все пили кофе, Эмиль тоже не показывался. Выйдя из-за стола, пастор пошел на кухню утешать Кресу-Майю. Она сидела там злющая-презлющая, потому что тиф оказался не настоящим. Но тут случилось вот что: когда пастор утешал Кресу-Майю, он случайно глянул на связку писем, которую Эмиль забыл на стуле. — Нет, просто невероятно! — пастор ахнул и схватил письмо Адриана из Америки. — У вас как раз та марка, которую я ищу столько лет! Пастор собирал марки и знал цену редкостям. Без лишних разговоров он предложил за марку сорок крон. Папа Эмиля чуть не задохнулся, услышав о такой баснословной цене. Подумать только, платить сорок крон за жалкий клочок бумаги! Он и сердился и недоумевал... Надо же! Этому Эмилю опять повезло! Покупка старой бархатной шкатулки оказалась удачной — лучшей сделкой, которую Эмиль заключил вчера на аукционе. — Ведь за сорок крон можно купить полкоровы, — сказал папа с упреком. Тут уж Эмиль не мог промолчать. Он приподнял крышку дровяного ларя, где прятался все это время. — Когда будешь покупать полкоровы, — спросил Эмиль, — ты возьмешь переднюю часть, что мычит, или заднюю, что бьет хвостом? — Марш в столярку! — взорвался папа. И Эмиль отправился в столярку. Но сперва он получил от пастора четыре красивых бумажки по десять крон каждая. А на следующий день он поскакал в Бак-хорву. Он вернул хозяевам письмо Адриана и отдал им половину вырученных денег, а потом поскакал домой, напутствуемый добрыми пожеланиями. — Думаю еще поездить тут по аукционам, — сказал Эмиль, когда вернулся. — Ты как, папа, не против? Папа что-то пробормотал в ответ, хотя, что именно, никто не расслышал. После того как разошлись весь вечер, как я сказала, в сто тридцатого деревянного гости, Эмиль просидел столярке, стругая своего старичка. И лишь тогда вдруг вспомнил, что день был воскресным, и значит, ножом нельзя стругать, потому что это считается страшным грехом. Нельзя, верно, было и зубы рвать, и тем более разукрашивать кого бы то ни было в фиолетовый цвет. Эмиль поставил деревянного человечка на полку в ряду других. За окном сгущались сумерки. Он сидел на чурбане и раздумывал о своих проступках. Продолжение следует |








