Костёр 1976-08, страница 11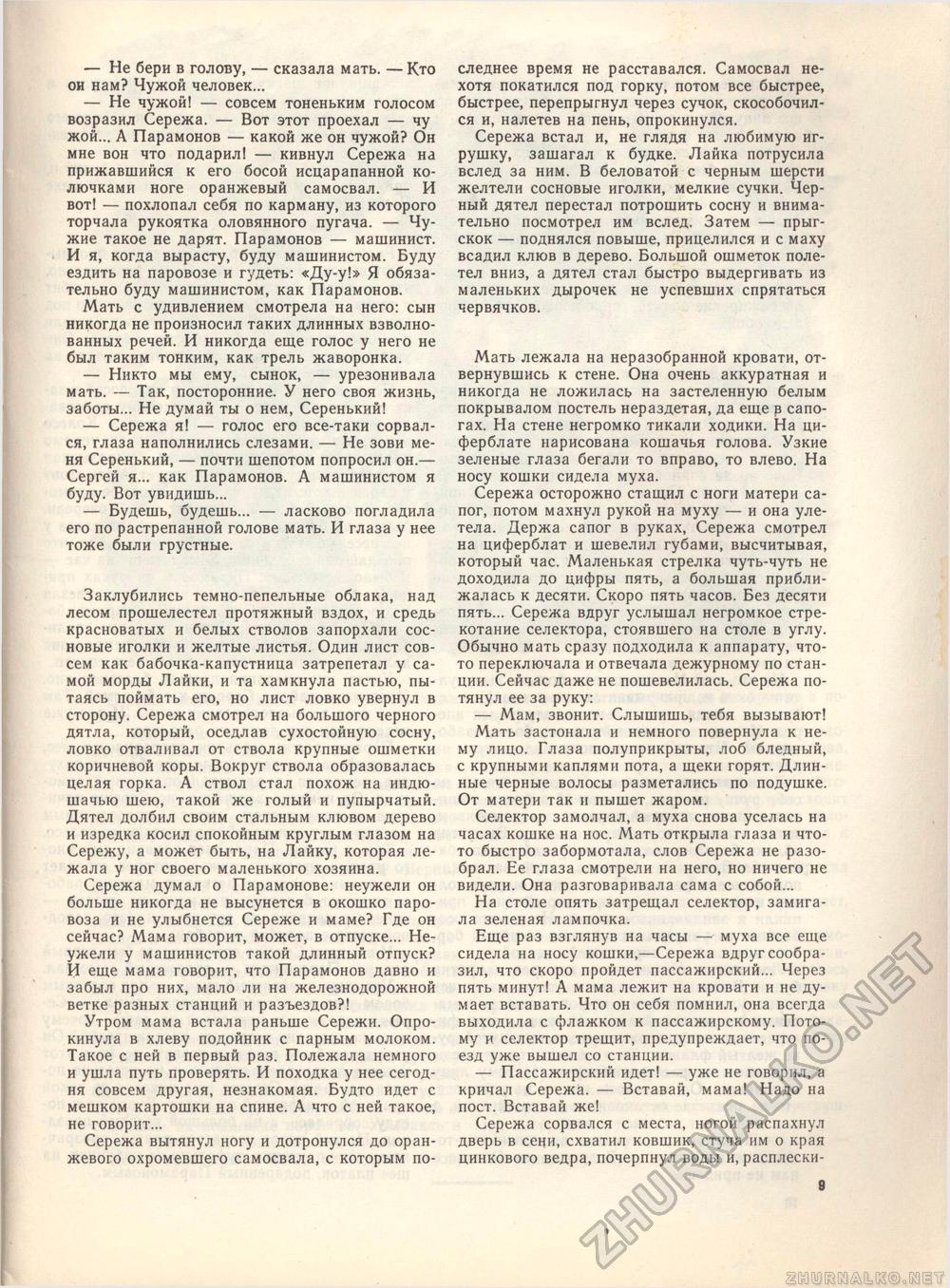
— Не бери в голову, — сказала мать. — Кто он нам? Чужой человек... — Не чужой! — совсем тоненьким голосом возразил Сережа. — Вот этот проехал — чу жой... А Парамонов — какой же он чужой? Он мне вон что подарил! — кивнул Сережа на прижавшийся к его босой исцарапанной колючками ноге оранжевый самосвал. — И вот! — похлопал себя по карману, из которого торчала рукоятка оловянного пугача. — Чужие такое не дарят. Парамонов — машинист. И я, когда вырасту, буду машинистом. Буду ездить на паровозе и гудеть: «Ду-у!» Я обязательно буду машинистом, как Парамонов. Мать с удивлением смотрела на него: сын никогда не произносил таких длинных взволнованных речей. И никогда еще голос у него не был таким тонким, как трель жаворонка. — Никто мы ему, сынок, — урезонивала мать. — Так, посторонние. У него своя жизнь, заботы... Не думай ты о нем, Серенький! — Сережа я! — голос его все-таки сорвался, глаза наполнились слезами. — Не зови меня Серенький, — почти шепотом попросил он.— Сергей я... как Парамонов. А машинистом я буду. Вот увидишь... — Будешь, будешь... — ласково погладила его по растрепанной голове мать. И глаза у нее тоже были грустные. Заклубились темно-пепельные облака, над лесом прошелестел протяжный вздох, и средь красноватых и белых стволов запорхали сосновые иголки и желтые листья. Один лист совсем как бабочка-капустница затрепетал у самой морды Лайки, и та хамкнула пастью, пытаясь поймать его, но лист ловко увернул в сторону. Сережа смотрел на большого черного дятла, который, оседлав сухостойную сосну, ловко отваливал от ствола крупные ошметки коричневой коры. Вокруг ствола образовалась целая горка. А ствол стал похож на индюшачью шею, такой же голый и пупырчатый. Дятел долбил своим стальным клювом дерево и изредка косил спокойным круглым глазом на Сережу, а может быть, на Лайку, которая лежала у ног своего маленького хозяина. Сережа думал о Парамонове: неужели он больше никогда не высунется в окошко паровоза и не улыбнется Сереже и маме? Где он сейчас? Мама говорит, может, в отпуске... Неужели у машинистов такой длинный отпуск? И еще мама говорит, что Парамонов давно и забыл про них, мало ли на железнодорожной ветке разных станций и разъездов?! Утром мама встала раньше Сережи. Опрокинула в хлеву подойник с парным молоком. Такое с ней в первый раз. Полежала немного и ушла путь проверять. И походка у нее сегодня совсем другая, незнакомая. Будто идет с мешком картошки на спине. А что с ней такое, не говорит... Сережа вытянул ногу и дотронулся до оранжевого охромевшего самосвала, с которым по следнее время не расставался. Самосвал нехотя покатился под горку, потом все быстрее, быстрее, перепрыгнул через сучок, скособочился и, налетев на пень, опрокинулся. Сережа встал и, не глядя на любимую игрушку, зашагал к будке. Лайка потрусила вслед за ним. В беловатой с черным шерсти желтели сосновые иголки, мелкие сучки. Черный дятел перестал потрошить сосну и внимательно посмотрел им вслед. Затем — прыг-скок — поднялся повыше, прицелился и с маху всадил клюв в дерево. Большой ошметок полетел вниз, а дятел стал быстро выдергивать из маленьких дырочек не успевших спрятаться червячков. Мать лежала на неразобранной кровати, отвернувшись к стене. Она очень аккуратная и никогда не ложилась на застеленную белым покрывалом постель нераздетая, да еще р сапогах. На стене негромко тикали ходики. На циферблате нарисована кошачья голова. Узкие зеленые глаза бегали то вправо, то влево. На носу кошки сидела муха. Сережа осторожно стащил с ноги матери сапог, потом махнул рукой на муху — и она улетела. Держа сапог в руках, Сережа смотрел на циферблат и шевелил губами, высчитывая, который час. Маленькая стрелка чуть-чуть не доходила до цифры пять, а большая приближалась к десяти. Скоро пять часов. Без десяти пять... Сережа вдруг услышал негромкое стрекотание селектора, стоявшего на столе в углу. Обычно мать сразу подходила к аппарату, что-то переключала и отвечала дежурному по станции. Сейчас даже не пошевелилась. Сережа потянул ее за руку: — Мам, звонит. Слышишь, тебя вызывают! Мать застонала и немного повернула к нему лицо. Глаза полуприкрыты, лоб бледный, с крупными каплями пота, а щеки горят. Длинные черные волосы разметались по подушке. От матери так и пышет жаром. Селектор замолчал, а муха снова уселась на часах кошке на нос. Мать открыла глаза и что-то быстро забормотала, слов Сережа не разобрал. Ее глаза смотрели на него, но ничего не видели. Она разговаривала сама с собой... На столе опять затрещал селектор, замигала зеленая лампочка. Еще раз взглянув на часы — муха все еще сидела на носу кошки,—Сережа вдруг сообразил, что скоро пройдет пассажирский... Через пять минут! А мама лежит на кровати и не думает вставать. Что он себя помнил, она всегда выходила с флажком к пассажирскому. Потому и селектор трещит, предупреждает, что поезд уже вышел со станции. — Пассажирский идет! — уже не говорил, а кричал Сережа. — Вставай, мама! Надо на пост. Вставай же! Сережа сорвался с места, ногой распахнул дверь в сени, схватил ковшик, стуча им о края цинкового ведра, почерпнул воды и, расплески 9 |








