Костёр 1982-04, страница 31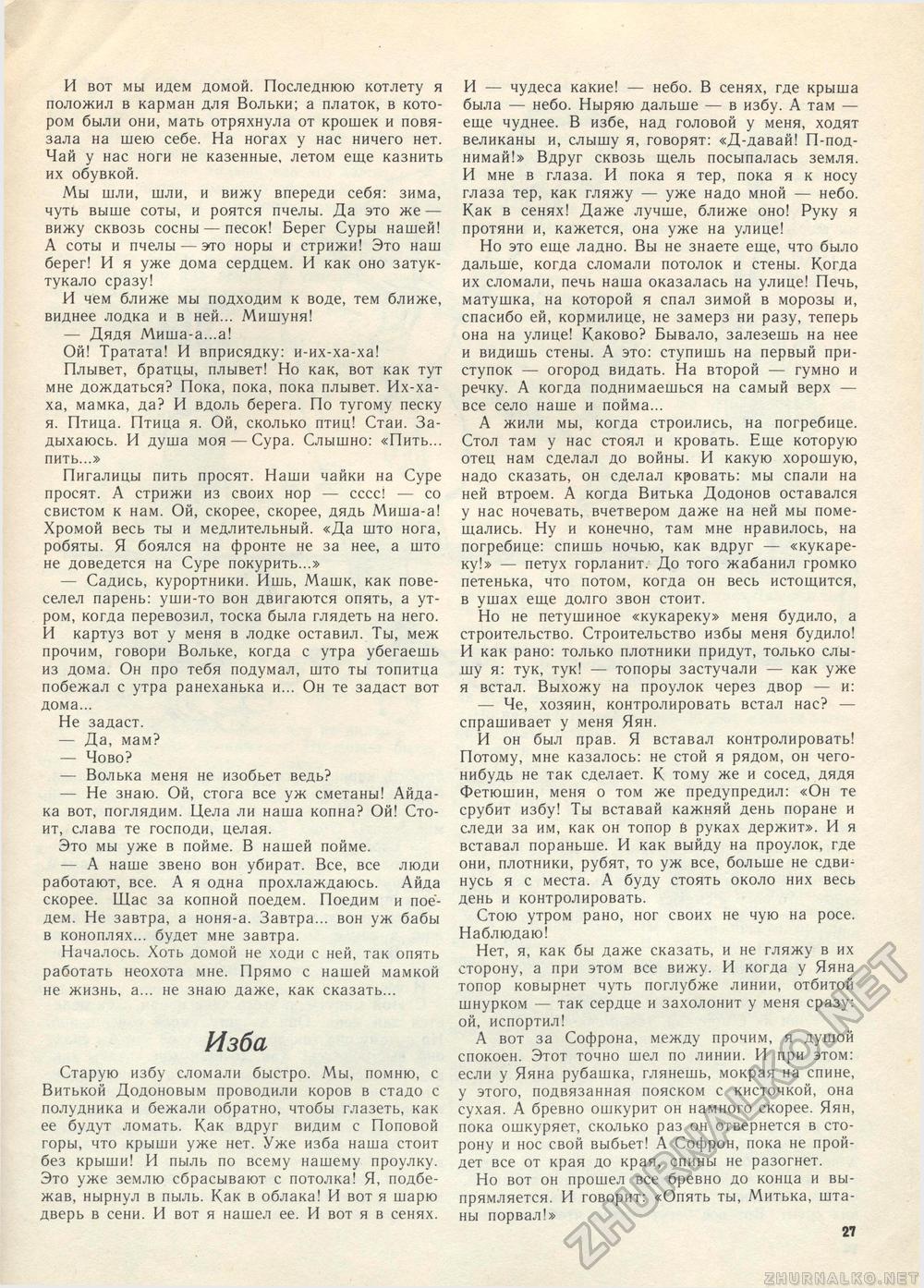
И вот мы идем домой. Последнюю котлету я положил в карман для Вольки; а платок, в котором были они, мать отряхнула от крошек и повязала на шею себе. На ногах у нас ничего нет. Чай у нас ноги не казенные, летом еще казнить их обувкой. Мы шли, шли, и вижу впереди себя: зима, чуть выше соты, и роятся пчелы. Да это же — вижу сквозь сосны — песок! Берег Суры нашей! А соты и пчелы — это норы и стрижи! Это наш берег! И я уже дома сердцем. И как оно затук-тукало сразу! И чем ближе мы подходим к воде, тем ближе, виднее лодка и в ней... Мишуня! — Дядя Миша-а...а! Ой! Тратата! И вприсядку: и-их-ха-ха! Плывет, братцы, плывет! Но как, вот как тут мне дождаться? Пока, пока, пока плывет. Их-ха-ха, мамка, да? И вдоль берега. По тугому песку я. Птица. Птица я. Ой, сколько птиц! Стаи. Задыхаюсь. И душа моя — Сура. Слышно: «Пить... пить...» Пигалицы пить просят. Наши чайки на Суре просят. А стрижи из своих нор — сссс! — со свистом к нам. Ой, скорее, скорее, дядь Миша-а! Хромой весь ты и медлительный. «Да што нога, робяты. Я боялся на фронте не за нее, а што не доведется на Суре покурить...» — Садись, курортники. Ишь, Машк, как повеселел парень: уши-то вон двигаются опять, а утром, когда перевозил, тоска была глядеть на него. И картуз вот у меня в лодке оставил. Ты, меж прочим, говори Вольке, когда с утра убегаешь из дома. Он про тебя подумал, што ты топитца побежал с утра ранеханька и... Он те задаст вот дома... Не задаст. — Да, мам? — Чово? — Волька меня не изобьет ведь? — Не знаю. Ой, стога все уж сметаны! Айда-ка вот, поглядим. Цела ли наша копна? Ой! Стоит, слава те господи, целая. Это мы уже в пойме. В нашей пойме. — А наше звено вон убират. Все, все люди работают, все. А я одна прохлаждаюсь. Айда скорее. Щас за копной поедем. Поедим и поедем. Не завтра, а ноня-а. Завтра... вон уж бабы в коноплях... будет мне завтра. Началось. Хоть домой не ходи с ней, так опять работать неохота мне. Прямо с нашей мамкой не жизнь, а... не знаю даже, как сказать... Изба Старую избу сломали быстро. Мы, помню, с Витькой Додоновым проводили коров в стадо с полудника и бежали обратно, чтобы глазеть, как ее будут ломать. Как вдруг видим с Поповой горы, что крыши уже нет. Уже изба наша стоит без крыши! И пыль по всему нашему проулку. Это уже землю сбрасывают с потолка! Я, подбежав, нырнул в пыль. Как в облака! И вот я шарю дверь в сени. И вот я нашел ее. И вот я в сенях. И — чудеса какие! — небо. В сенях, где крыша была — небо. Ныряю дальше — в избу. А там — еще чуднее. В избе, над головой у меня, ходят великаны и, слышу я, говорят: «Д-давай! П-под-нимай!» Вдруг сквозь щель посыпалась земля. И мне в глаза. И пока я тер, пока я к носу — небо. глаза тер, как гляжу уже надо мной Как в сенях! Даже лучше, ближе оно! Руку я протяни и, кажется, она уже на улице! Но это еще ладно. Вы не знаете еще, что было дальше, когда сломали потолок и стены. Когда их сломали, печь наша оказалась на улице! Печь, матушка, на которой я спал зимои в морозы и, спасибо ей, кормилице, не замерз ни разу, теперь она на улице! Каково? Бывало, залезешь на нее и видишь стены. А это: ступишь на первый приступок — огород видать. На второй — гумно и речку. А когда поднимаешься на самый верх — все село наше и пойма... А жили мы, когда строились, на погребице. Стол там у нас стоял и кровать. Еще которую отец нам сделал до войны. И какую хорошую, надо сказать, он сделал кровать: мы спали на ней втроем. А когда Витька Додонов оставался у нас ночевать, вчетвером даже на ней мы помещались. Ну и конечно, там мне нравилось, на погребице: спишь ночью, как вдруг — «кукареку!» — петух горланит. До того жабанил громко петенька, что потом, когда он весь истощится, в ушах еще долго звон стоит. Но не петушиное «кукареку» меня будило, а строительство. Строительство избы меня будило! И как рано: только плотники придут, только слышу я: тук, тук! — топоры застучали — как уже я встал. Выхожу на проулок через двор — и: — Че, хозяин, контролировать встал нас? — спрашивает у меня Яян. И он был прав. Я вставал контролировать! Потому, мне казалось: не стой я рядом, он чего-нибудь не так сделает. К тому же и сосед, дядя Фетюшин, меня о том же предупредил: «Он те срубит избу! Ты вставай кажняй день поране и следи за им, как он топор В руках держит». И я вставал пораньше. И как выйду на проулок, где они, плотники, рубят, то уж все, больше не сдви^ нусь я с места. А буду стоять около них весь день и контролировать. Стою утром рано, ног своих не чую на росе. Наблюдаю! Нет, я, как бы даже сказать, и не гляжу в их сторону, а при этом все вижу. И когда у Яяна топор ковырнет чуть поглубже линии, отбитой шнурком — так сердце и захолонит у меня сразу: ой, испортил! А вот за Софрона, между прочим, я душой спокоен. Этот точно шел по линии. И при этом: если у Яяна рубашка, глянешь, мокрая на спине, у этого, подвязанная пояском с кисточкой, она сухая. А бревно ошкурит он намного скорее. Яян, пока ошкуряет, сколько раз он отвернется в сторону и нос свой выбьет! А Софрон, пока не пройдет все от края до края, спины не разогнет. Но вот он прошел все бревно до конца и выпрямляется. И говорит: «Опять ты, Митька, штаны порвал!» 27 |








