Костёр 1984-10, страница 27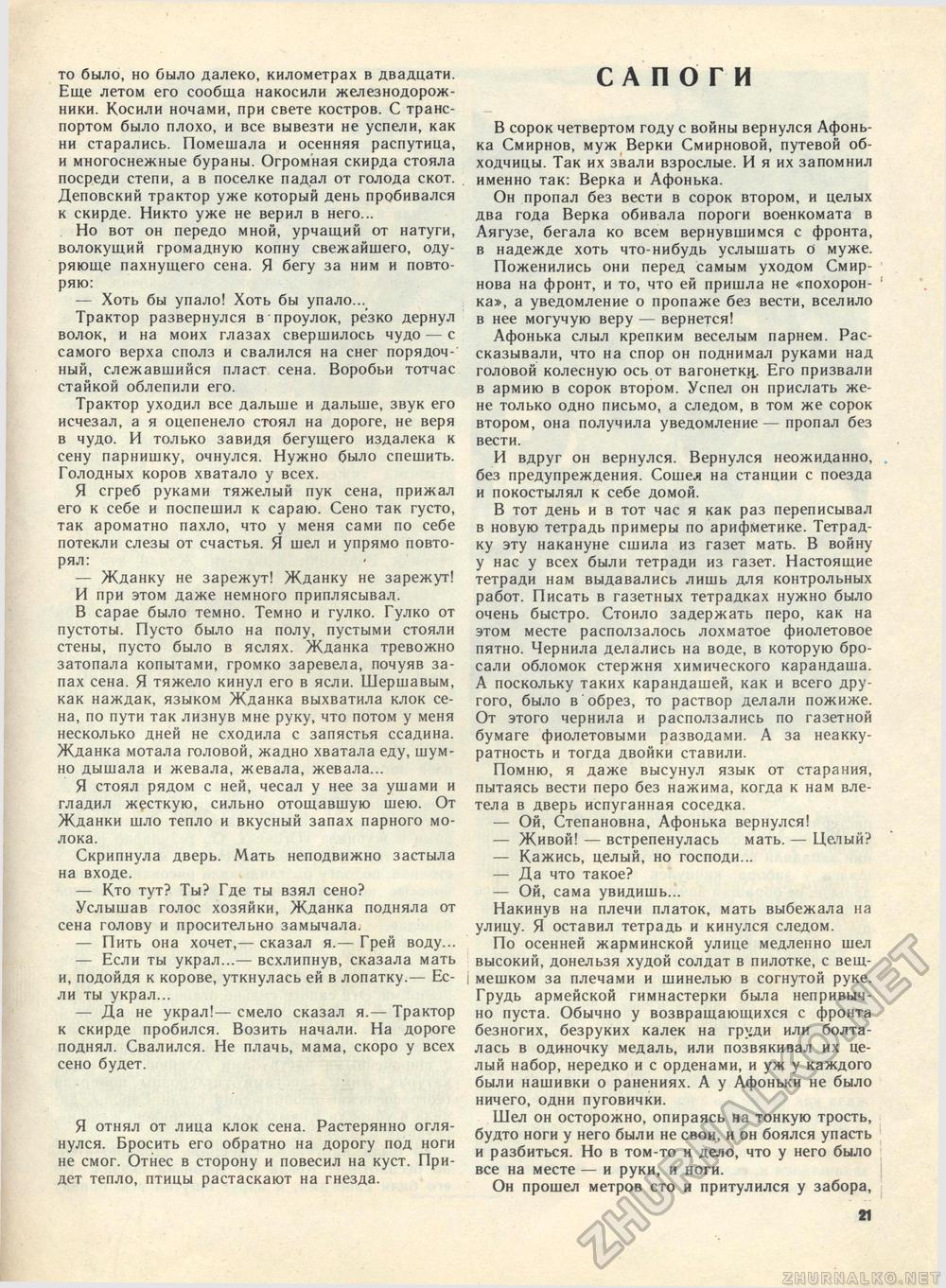
то было, но было далеко, километрах в двадцати. Еще летом его сообща накосили железнодорожники. Косили ночами, при свете костров. С транспортом было плохо, и все вывезти не успели, как ни старались. Помешала и осенняя распутица, и многоснежные бураны. Огромная скирда стояла посреди степи, а в поселке падал от голода скот. Деповский трактор уже который день пробивался к скирде. Никто уже не верил в него... . Но вот он передо мной, урчащий от натуги, волокущий громадную копну свежайшего, одуряюще пахнущего сена. Я бегу за ним и повторяю: — Хоть бы упало! Хоть бы упало... Трактор развернулся в проулок, резко дернул волок, и на моих глазах свершилось чудо — с самого верха сполз и свалился на снег порядочный, слежавшийся пласт сена. Воробьи тотчас стайкой облепили его. Трактор уходил все дальше и дальше, звук его исчезал, а я оцепенело стоял на дороге, не веря в чудо. И только завидя бегущего издалека к сену парнишку, очнулся. Нужно было спешить. Голодных коров хватало у всех. Я сгреб руками тяжелый пук сена, прижал его к себе и поспешил к сараю. Сено так густо, так ароматно пахло, что у меня сами по себе потекли слезы от счастья. Я шел и упрямо повторял: — Жданку не зарежут! Жданку не зарежут! И при этом даже немного приплясывал. В сарае было темно. Темно и гулко. Гулко от пустоты. Пусто было на полу, пустыми стояли стены, пусто было в яслях. Жданка тревожно затопала копытами, громко заревела, почуяв запах сена. Я тяжело кинул его в ясли. Шершавым, как наждак, языком Жданка выхватила клок сена, по пути так лизнув мне руку, что потом у меня несколько дней не сходила с запястья ссадина. Жданка мотала головой, жадно хватала еду, шумно дышала и жевала, жевала, жевала... Я стоял рядом с ней, чесал у нее за ушами и гладил жесткую, сильно отощавшую шею. От Жданки шло тепло и вкусный запах парного молока. Скрипнула дверь. Мать неподвижно застыла на входе. — Кто тут? Ты? Где ты взял сено? Услышав голос хозяйки, Жданка подняла от сена голову и просительно замычала. — Пить она хочет,— сказал я.— Грей воду... — Если ты украл...— всхлипнув, сказала мать и, подойдя к корове, уткнулась ей в лопатку.— Если ты украл... — Да не украл!— смело сказал я.— Трактор к скирде пробился. Возить начали. На дороге поднял. Свалился. Не плачь, мама, скоро у всех сено будет. САПОГИ Я отнял от лица клок сена. Растерянно оглянулся. Бросить его обратно на дорогу под ноги не смог. Отнес в сторону и повесил на куст. Придет тепло, птицы растаскают на гнезда. В сорок четвертом году с войны вернулся Афонь-ка Смирнов, муж Верки Смирновой, путевой об-ходчицы. Так их звали взрослые. И я их запомнил именно так: Верка и Афонька. Он пропал без вести в сорок втором, и целых два года Верка обивала пороги военкомата в Аягузе, бегала ко всем вернувшимся с фронта, в надежде хоть что-нибудь услышать о муже. Поженились они перед самым уходом Смирнова на фронт, и то, что ей пришла не «похоронка», а уведомление о пропаже без вести, вселило в нее могучую веру — вернется! Афонька слыл крепким веселым парнем. Рассказывали, что на спор он поднимал руками над головой колесную ось от вагонетки,. Его призвали в армию в сорок втором. Успел он прислать жене только одно письмо, а следом, в том же сорок втором, она получила уведомление—пропал без вести. И вдруг он вернулся. Вернулся неожиданно, без предупреждения. Сошел на станции с поезда и покостылял к себе домой. В тот день и в тот час я как раз переписывал в новую тетрадь примеры по арифметике. Тетрадку эту накануне сшила из газет мать. В войну у нас у всех были тетради из газет. Настоящие тетради нам выдавались лишь для контрольных работ. Писать в газетных тетрадках нужно было очень быстро. Стоило задержать перо, как на этом месте расползалось лохматое фиолетовое пятно. Чернила делались на воде, в которую бросали обломок стержня химического карандаша. А поскольку таких карандашей, как и всего другого, было в обрез, то раствор делали пожиже. От этого чернила и расползались по газетной бумаге фиолетовыми разводами. А за неаккуратность и тогда двойки ставили. Помню, я даже высунул язык от старания, пытаясь вести перо без нажима, когда к нам влетела в дверь испуганная соседка. — Ой, Степановна, Афонька вернулся! — Живой! — встрепенулась мать. — Целый? — Кажись, целый, но господи... — Да что такое? — Ой, сама увидишь... Накинув на плечи платок, мать выбежала на улицу. Я оставил тетрадь и кинулся следом. По осенней жарминской улице медленно шел высокий, донельзя худой солдат в пилотке, с вещмешком за плечами и шинелью в согнутой руке. Грудь армейской гимнастерки была непривычно пуста. Обычно у возвращающихся с фронта безногих, безруких калек на гр):ди или болталась в одиночку медаль, или позвякивал их целый набор, нередко и с орденами, и уж у каждого были нашивки о ранениях. А у Афоньки не было ничего, одни пуговички. Шел он осторожно, опираясь на тонкую трость, будто ноги у него были не свои, и он боялся упасть и разбиться. Но в том-то и дело, что у него было все на месте — и руки, и ноги. Он прошел метров сто и притулился у забора, 21 |








