Костёр 1984-10, страница 6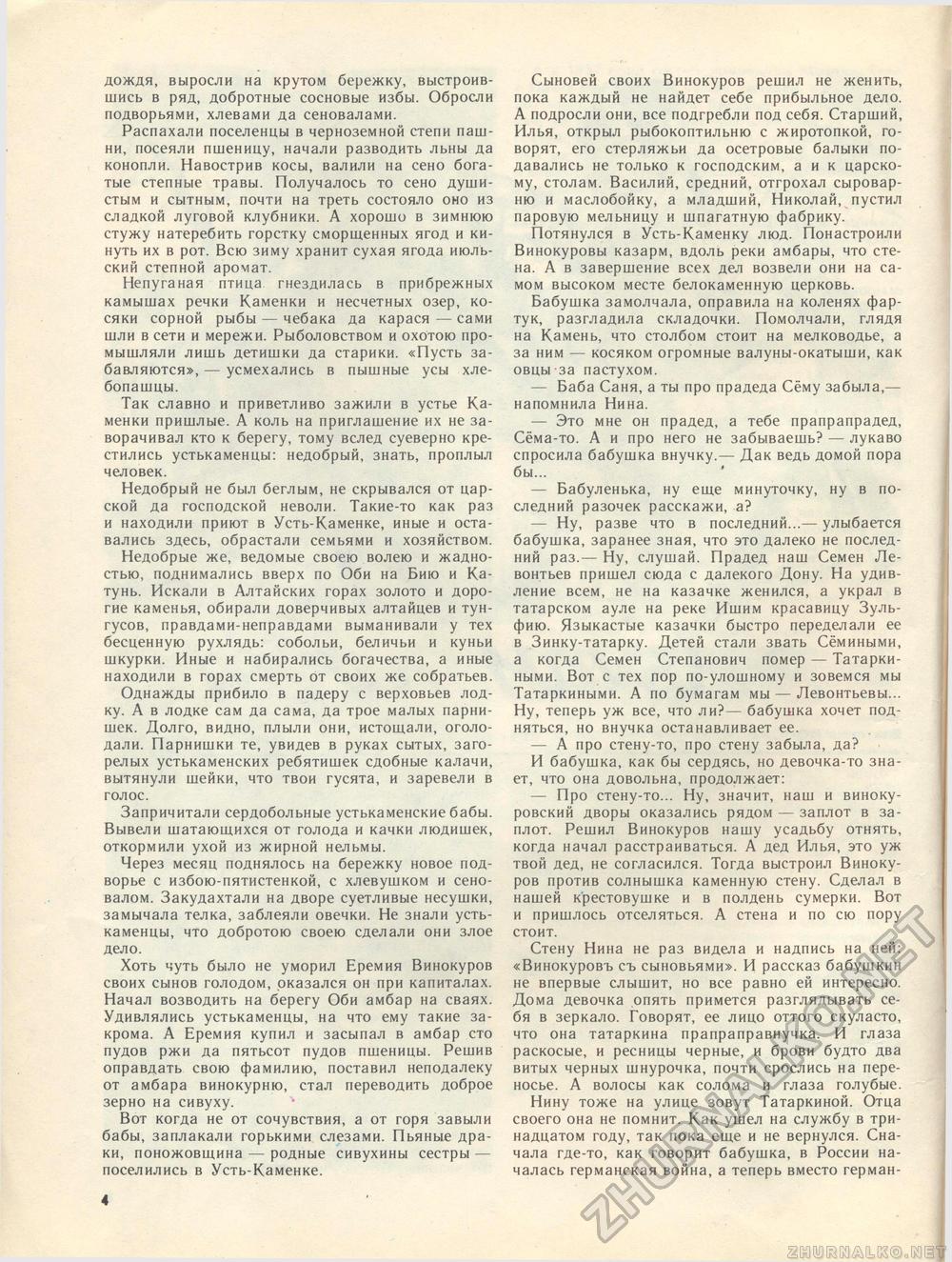
дождя, выросли на крутом бережку, выстроившись в ряд, добротные сосновые избы. Обросли подворьями, хлевами да сеновалами. Распахали поселенцы в черноземной степи пашни, посеяли пшеницу, начали разводить льны да конопли. Навострив косы, валили на сено богатые степные травы. Получалось то сено душистым и сытным, почти на треть состояло оно из сладкой луговой клубники. А хорошо в зимнюю стужу натеребить горстку сморщенных ягод и кинуть их в рот. Всю зиму хранит сухая ягода июльский степной аромат. Непуганая птица, гнездилась в прибрежных камышах речки Каменки и несчетных озер, косяки сорной рыбы — чебака да карася — сами шли в сети и мережи. Рыболовством и охотою промышляли лишь детишки да старики. «Пусть забавляются», — усмехались в пышные усы хлебопашцы. Так славно и приветливо зажили в устье Каменки пришлые. А коль на приглашение их не заворачивал кто к берегу, тому вслед суеверно крестились устькаменцы: недобрый, знать, проплыл человек. Недобрый не был беглым, не скрывался от царской да господской неволи. Такие-то как раз и находили приют в Усть-Каменке, иные и оставались здесь, обрастали семьями и хозяйством. Недобрые же, ведомые своею волею и жадностью, поднимались вверх по Оби на Бию и Ка-тунь. Искали в Алтайских горах золото и дорогие каменья, обирали доверчивых алтайцев и тунгусов, правдами-неправдами выманивали у тех бесценную рухлядь: собольи, беличьи и куньи шкурки. Иные и набирались богачества, а иные находили в горах смерть от своих же собратьев. Однажды прибило в падеру с верховьев лодку. А в лодке сам да сама, да трое малых парнишек. Долго, видно, плыли они, истощали, оголодали. Парнишки те, увидев в руках сытых, загорелых устькаменских ребятишек сдобные калачи, вытянули шейки, что твои гусята, и заревели в голос. Запричитали сердобольные устькаменские бабы. Вывели шатающихся от голода и качки людишек, откормили ухой из жирной нельмы. Через месяц поднялось на бережку новое подворье с избою-пятистенкой, с хлевушком и сеновалом. Закудахтали на дворе суетливые несушки, замычала телка, заблеяли овечки. Не знали устькаменцы, что добротою своею сделали они злое дело. Хоть чуть было не уморил Еремия Винокуров своих сынов голодом, оказался он при капиталах. Начал возводить на берегу Оби амбар на сваях. Удивлялись устькаменцы, на что ему такие закрома. А Еремия купил и засыпал в амбар сто пудов ржи да пятьсот пудов пшеницы. Решив оправдать свою фамилию, поставил неподалеку от амбара винокурню, стал переводить доброе зерно на сивуху. Вот когда не от сочувствия, а от горя завыли бабы, заплакали горькими слезами. Пьяные драки, поножовщина — родные сивухины сестры — поселились в Усть-Каменке. Сыновей своих Винокуров решил не женить, пока каждый не найдет себе прибыльное дело. А подросли они, все подгребли под себя. Старший, Илья, открыл рыбокоптильню с жиротопкой, говорят, его стерляжьи да осетровые балыки подавались не только к господским, а и к царскому, столам. Василий, средний, отгрохал сыроварню и маслобойку, а младший, Николай, пустил паровую мельницу и шпагатную фабрику. Потянулся в Усть-Каменку люд. Понастроили Винокуровы казарм, вдоль реки амбары, что стена. А в завершение всех дел возвели они на самом высоком месте белокаменную церковь. Бабушка замолчала, оправила на коленях фартук, разгладила складочки. Помолчали, глядя на Камень, что столбом стоит на мелководье, а за ним — косяком огромные валуны-окатыши, как овцы за пастухом. — Баба Саня, а ты про прадеда Сёму забыла,— напомнила Нина. — Это мне он прадед, а тебе прапрапрадед, Сёма-то. А и про него не забываешь? — лукаво спросила бабушка внучку.— Дак ведь домой пора бы... — Бабуленька, ну еще минуточку, ну в последний разочек расскажи, а? — Ну, разве что в последний...— улыбается бабушка, заранее зная, что это далеко не последний раз.— Ну, слушай. Прадед наш Семен Ле-вонтьев пришел сюда с далекого Дону. На удивление всем, не на казачке женился, а украл в татарском ауле на реке Ишим красавицу Зуль-фию. Языкастые казачки быстро переделали ее в Зинку-татарку. Детей стали звать Сёмиными, а когда Семен Степанович помер — Татарки-ными. Вот с тех пор по-улошному и зовемся мы Татаркиными. А по бумагам мы — Левонтьевы... Ну, теперь уж все, что ли?— бабушка хочет подняться, но внучка останавливает ее. — А про стену-то, про стену забыла, да? И бабушка, как бы сердясь, но девочка-то знает, что она довольна, продолжает: — Про стену-то... Ну, значит, наш и виноку-ровский дворы оказались рядом — заплот в заплот. Решил Винокуров нашу усадьбу отнять, когда начал расстраиваться. А дед Илья, это уж твой дед, не согласился. Тогда выстроил Винокуров против солнышка каменную стену. Сделал в нашей крестовушке и в полдень сумерки. Вот и пришлось отселяться. А стена и по сю пору стоит. Стену Нина не раз видела и надпись на ней: «Винокуровъ съ сыновьями». И рассказ бабушкин не впервые слышит, но все равно ей интересно. Дома девочка опять примется разглядывать себя в зеркало. Говорят, ее лицо оттого скуласто, что она татаркина прапраправнучка. И глаза раскосые, и ресницы черные, и брови будто два витых черных шнурочка, почти срослись на переносье. А волосы как солома и глаза голубые. Нину тоже на улице зовут Татаркиной. Отца своего она не помнит. Как ушел на службу в тринадцатом году, так пока еще и не вернулся. Сначала где-то, как говорит бабушка, в России началась германская война, а теперь вместо герман- 4 I |








