Костёр 1985-09, страница 23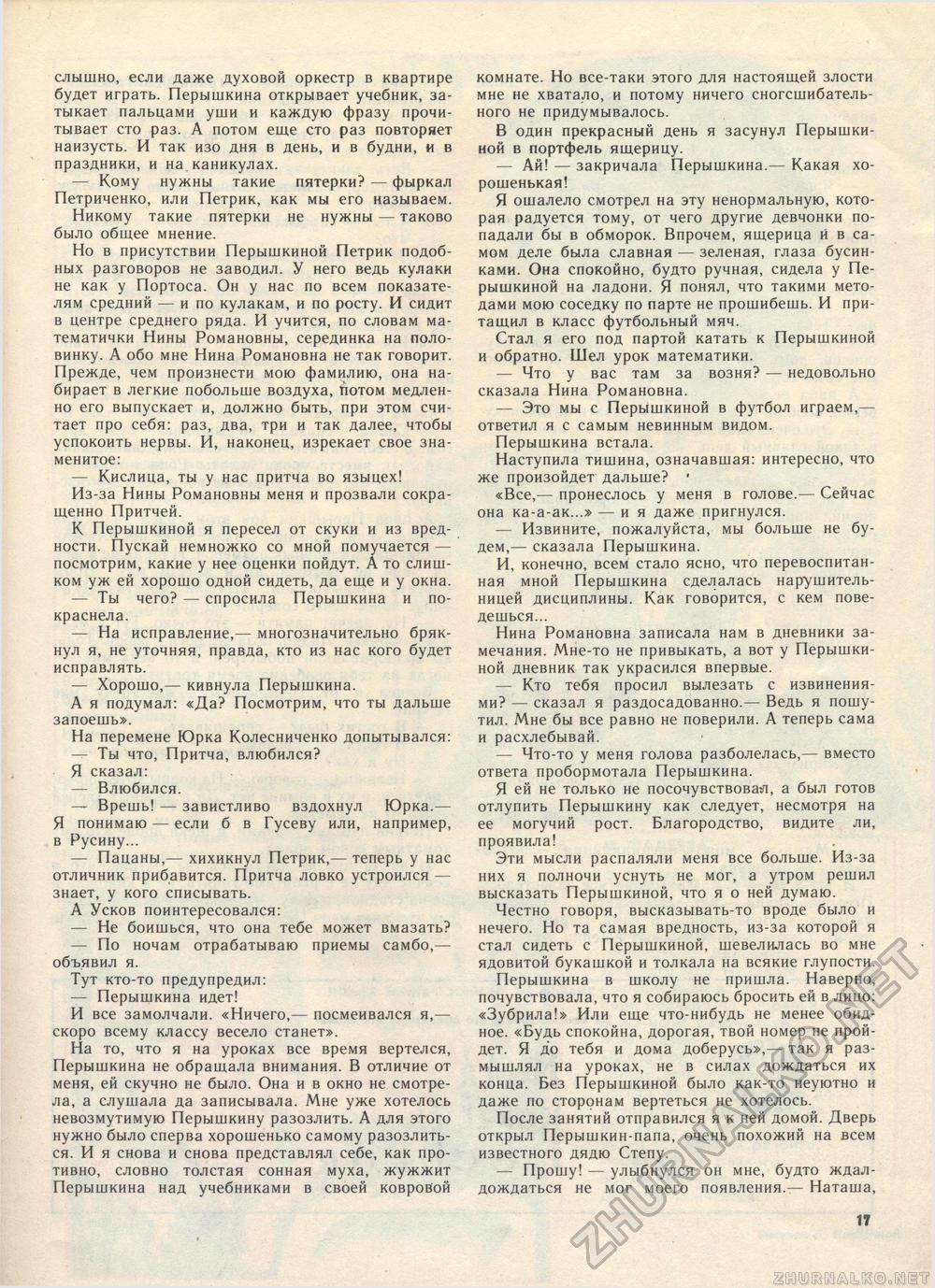
слышно, если даже духовой оркестр в квартире будет играть. Перышкина открывает учебник, затыкает пальцами уши и каждую фразу прочитывает сто раз. А потом еще сто раз повторяет наизусть. И так изо дня в день, и в будни, и в праздники, и на каникулах. — Кому нужны такие пятерки? — фыркал Петриченко, или Петрик, как мы его называем. Никому такие пятерки не нужны — таково было общее мнение. Но в присутствии Перышкиной Петрик подобных разговоров не заводил. У него ведь кулаки не как у Портоса. Он у нас по всем показателям средний — и по кулакам, и по росту. И сидит в центре среднего ряда. И учится, по словам ма-тематички Нины Романовны, серединка на половинку. А обо мне Нина Романовна не так говорит. Прежде, чем произнести мою фамилию, она набирает в легкие побольше воздуха, потом медленно его выпускает и, должно быть, при этом считает про себя: раз, два, три и так далее, чтобы успокоить нервы. И, наконец, изрекает свое знаменитое: — Кислица, ты у нас притча во языцех! Из-за Нины Романовны меня и прозвали сокращенно Притчей. К Перышкиной я пересел от скуки и из вредности. Пускай немножко со мной помучается — посмотрим, какие у нее оценки пойдут. А то слишком уж ей хорошо одной сидеть, да еще и у окна. — Ты чего? — спросила Перышкина и покраснела. — На исправление,— многозначительно брякнул я, не уточняя, правда, кто из нас кого будет исправлять. — Хорошо,— кивнула Перышкина. А я подумал: «Да? Посмотрим, что ты дальше запоешь». На перемене Юрка Колесниченко допытывался: — Ты что, Притча, влюбился? Я сказал: — Влюбился. — Врешь! — завистливо вздохнул Юрка.— Я понимаю — если б в Гусеву или, например, в Русину... — Пацаны,— хихикнул Петрик,— теперь у нас отличник прибавится. Притча ловко устроился — знает, у кого списывать. А Усков поинтересовался: — Не боишься, что она тебе может вмазать? — По ночам отрабатываю приемы самбо,— объявил я. Тут кто-то предупредил: — Перышкина идет! И все замолчали. «Ничего,— посмеивался я,— скоро всему классу весело станет». На то, что я на уроках все время вертелся, Перышкина не обращала внимания. В отличие от меня, ей скучно не было. Она и в окно не смотрела, а слушала да записывала. Мне уже хотелось невозмутимую Перышкину разозлить. А для этого нужно было сперва хорошенько самому разозлиться. И я снова и снова представлял себе, как противно, словно толстая сонная муха, жужжит Перышкина над учебниками в своей ковровой комнате. Но все-таки этого для настоящей злости мне не хватало, и потому ничего сногсшибательного не придумывалось. В один прекрасный день я засунул Перышкиной в портфель ящерицу. — Ай! — закричала Перышкина.— Какая хорошенькая! Я ошалело смотрел на эту ненормальную, которая радуется тому, от чего другие девчонки попадали бы в обморок. Впрочем, ящерица и в самом деле была славная — зеленая, глаза бусинками. Она спокойно, будто ручная, сидела у Перышкиной на ладони. Я понял, что такими методами мою соседку по парте не прошибешь. И притащил в класс футбольный мяч. Стал я его под партой катать к Перышкиной и обратно. Шел урок математики. — Что у вас там за возня? — недовольно сказала Нина Романовна. — Это мы с Перышкиной в футбол играем,— ответил я с самым невинным видом. Перышкина встала. Наступила тишина, означавшая: интересно, что же произойдет дальше? • «Все,— пронеслось у меня в голове.— Сейчас она ка-а-ак...» — и я даже пригнулся. — Извините, пожалуйста, мы больше не будем,— сказала Перышкина. И, конечно, всем стало ясно, что перевоспитанная мной Перышкина сделалась нарушительницей дисциплины. Как говорится, с кем поведешься... Нина Романовна записала нам в дневники замечания. Мне-то не привыкать, а вот у Перышкиной дневник так украсился впервые. — Кто тебя просил вылезать с извинениями? — сказал я раздосадованно.— Ведь я пошутил. Мне бы все равно не поверили. А теперь сама и расхлебывай. — Что-то у меня голова разболелась,— вместо ответа пробормотала Перышкина. Я ей не только не посочувствовал, а был готов отлупить Перышкину как следует, несмотря на ее могучий рост. Благородство, видите ли, проявила! Эти мысли распаляли меня все больше. Из-за них я полночи уснуть не мог, а утром решил высказать Перышкиной, что я о ней думаю. Честно говоря, высказывать-то вроде было и нечего. Но та самая вредность, из-за которой я стал сидеть с Перышкиной, шевелилась во мне ядовитой букашкой и толкала на всякие глупости. Перышкина в школу не пришла. Наверно, почувствовала, что я собираюсь бросить ей в лицо: «Зубрила!» Или еще что-нибудь не менее обидное. «Будь спокойна, дорогая, твой номер не пройдет. Я до тебя и дома доберусь»,— так я размышлял на уроках, не в силах дождаться их конца. Без Перышкиной было как-то неуютно и даже по сторонам вертеться не хотелось. После занятий отправился я к ней домой. Дверь открыл Перышкин-папа, очень похожий на всем известного дядю Степу. — Прошу! — улыбнулся он мне, будто ждал-дождаться не мог моего появления.— Наташа, 17 |








