Костёр 1988-01, страница 13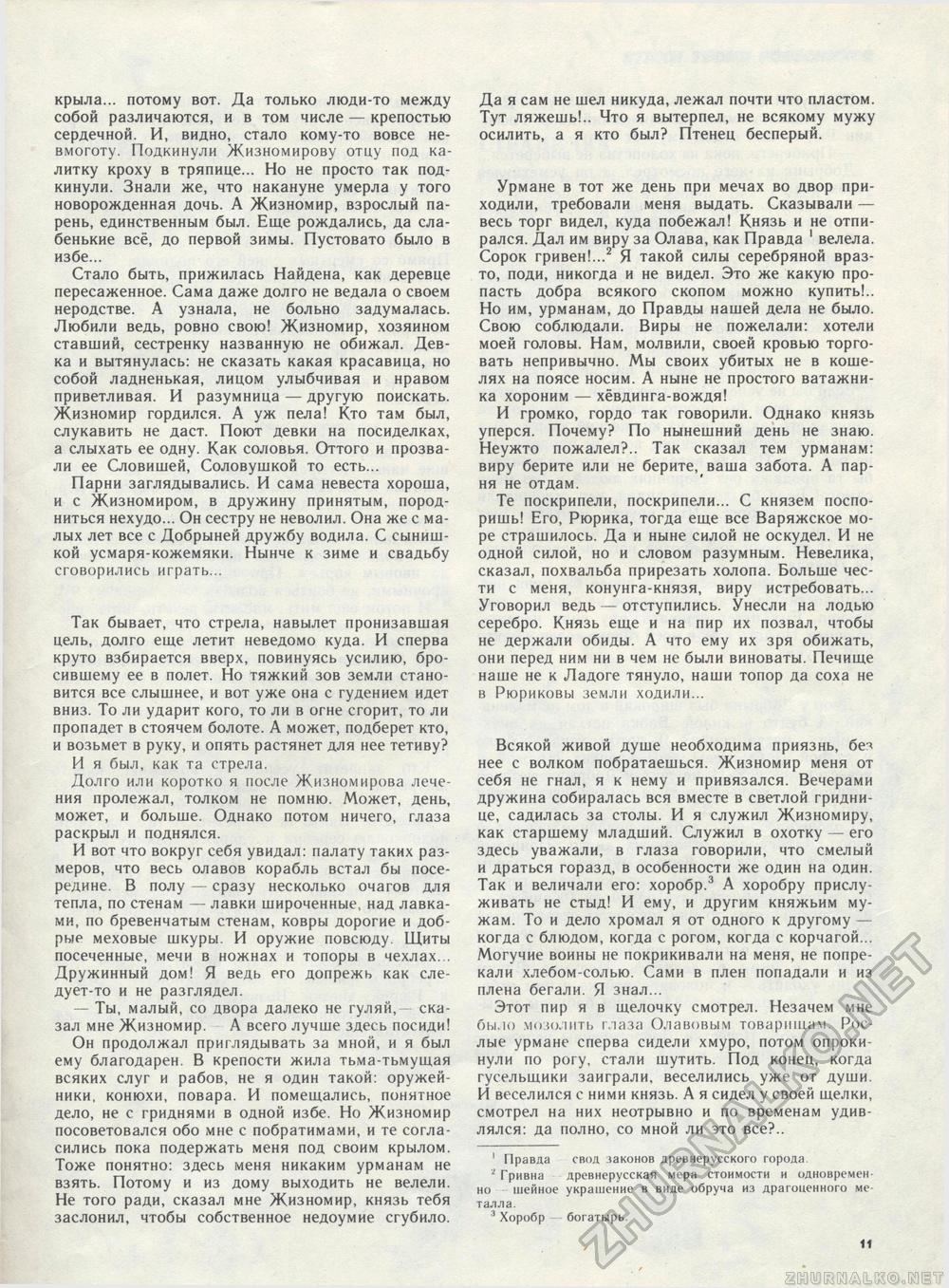
крыла... потому вот. Да только люди-то между собой различаются, и в том числе — крепостью сердечной. И, видно, стало кому-то вовсе невмоготу. Подкинули Жизномирову отцу под калитку кроху в тряпице... Но не просто так подкинули. Знали же, что накануне умерла у того новорожденная дочь. А Жизномир, взрослый парень, единственным был. Еще рождались, да слабенькие всё, до первой зимы. Пустовато было в избе... Стало быть, прижилась Найдена, как деревце пересаженное. Сама даже долго не ведала о своем неродстве. А узнала, не больно задумалась. Любили ведь, ровно свою! Жизномир, хозяином ставший, сестренку названную не обижал. Девка и вытянулась: не сказать какая красавица, но собой ладненькая, лицом улыбчивая и нравом приветливая. И разумница — другую поискать. Жизномир гордился. А уж пела! Кто там был, слукавить не даст. Поют девки на посиделках, а слыхать ее одну. Как соловья. Оттого и прозвали ее Словишей, Соловушкой то есть... Парни заглядывались. И сама невеста хороша, и с Жизномиром, в дружину принятым, породниться нехудо... Он сестру не неволил. Она же с малых лет все с Добрыней дружбу водила. С сынишкой усмаря-кожемяки. Нынче к зиме и свадьбу сговорились играть... Так бывает, что стрела, навылет пронизавшая цель, долго еще летит неведомо куда. И сперва круто взбирается вверх, повинуясь усилию, бросившему ее в полет. Но тяжкий зов земли становится все слышнее, и вот уже она с гудением идет вниз. То ли ударит кого, то ли в огне сгорит, то ли пропадет в стоячем болоте. А может, подберет кто, и возьмет в руку, и опять растянет для нее тетиву? И я был, как та стрела. Долго или коротко я после Жизномирова лечения пролежал, толком не помню. Может, день, может, и больше. Однако потом ничего, глаза раскрыл и поднялся. И вот что вокруг себя увидал: палату таких размеров, что весь олавов корабль встал бы посередине. В полу — сразу несколько очагов для тепла, по стенам — лавки широченные, над лавками, по бревенчатым стенам, ковры дорогие и добрые меховые шкуры. И оружие повсюду. Щиты посеченные, мечи в ножнах и топоры в чехлах... Дружинный дом! Я ведь его допрежь как следует-то и не разглядел. — Ты, малый, со двора далеко не гуляй,— сказал мне Жизномир. - А всего лучше здесь посиди! Он продолжал приглядывать за мной, и я был ему благодарен. В крепости жила тьма-тьмущая всяких слуг и рабов, не я один такой: оружейники, конюхи, повара. И помещались, понятное дело, не с гриднями в одной избе. Но Жизномир посоветовался обо мне с побратимами, и те согласились пока подержать меня под своим крылом. Тоже понятно: здесь меня никаким урманам не взять. Потому и из дому выходить не велели. Не того ради, сказал мне Жизномир, князь тебя заслонил, чтобы собственное недоумие сгубило. Да я сам не шел никуда, лежал почти что пластом. Тут ляжешь!.. Что я вытерпел, не всякому мужу осилить, а я кто был? Птенец бесперый. Урмане в тот же день при мечах во двор приходили, требовали меня выдать. Сказывали — весь торг видел, куда побежал! Князь и не отпирался. Дал им виру за Олава, как Правда 1 велела. Сорок гривен!...2 Я такой силы серебряной враз-то, поди, никогда и не видел. Это же какую пропасть добра всякого скопом можно купить!.. Но им, урманам, до Правды нашей дела не было. Свою соблюдали. Виры не пожелали: хотели моей головы. Нам, молвили, своей кровью торговать непривычно. Мы своих убитых не в кошелях на поясе носим. А ныне не простого ватажника хороним — хёвдинга-вождя! И громко, гордо так говорили. Однако князь уперся. Почему? По нынешний день не знаю. Неужто пожалел?.. Так сказал тем урманам: виру берите или не берите, ваша забота. А парня не отдам. Те поскрипели, поскрипели... С князем поспоришь! Его, Рюрика, тогда еще все Варяжское море страшилось. Да и ныне силой не оскудел. И не одной силой, но и словом разумным. Невелика, сказал, похвальба прирезать холопа. Больше чести с меня, конунга-князя, виру истребовать... Уговорил ведь — отступились. Унесли на лодью серебро. Князь еще и на пир их позвал, чтобы не держали обиды. А что ему их зря обижать, они перед ним ни в чем не были виноваты. Печище наше не к Ладоге тянуло, наши топор да соха не в Рюриковы земли ходили... Всякой живой душе необходима приязнь, бе^ нее с волком побратаешься. Жизномир меня от себя не гнал, я к нему и привязался. Вечерами дружина собиралась вся вместе в светлой гриднице, садилась за столы. И я служил Жизномиру, как старшему младший. Служил в охотку — его здесь уважали, в глаза говорили, что смелый и драться горазд, в особенности же один на один. Так и величали его: хоробр.3 А хоробру прислуживать не стыд! И ему, и другим княжьим мужам. То и дело хромал я от одного к другому — когда с блюдом, когда с рогом, когда с корчагой... Могучие воины не покрикивали на меня, не попрекали хлебом-солью. Сами в плен попадали и из плена бегали. Я знал... Этот пир я в щелочку смотрел. Незачем мне было мозолить глаза Олавовым товарищам. Рослые урмане сперва сидели хмуро, потом опрокинули по рогу, стали шутить. Под конец, когда гусельщики заиграли, веселились уже от души. И веселился с ними князь. А я сидел у своей щелки, смотрел на них неотрывно и по временам удивлялся: да полно, со мной ли это все?.. 4 1 Правда свод законов древнерусского города. 2 Гривна древнерусская мера стоимости и одновременно - шейное украшение в виде обруча из драгоценного металла. 3 Хоробр — богатырь. / |








