Костёр 1990-09, страница 12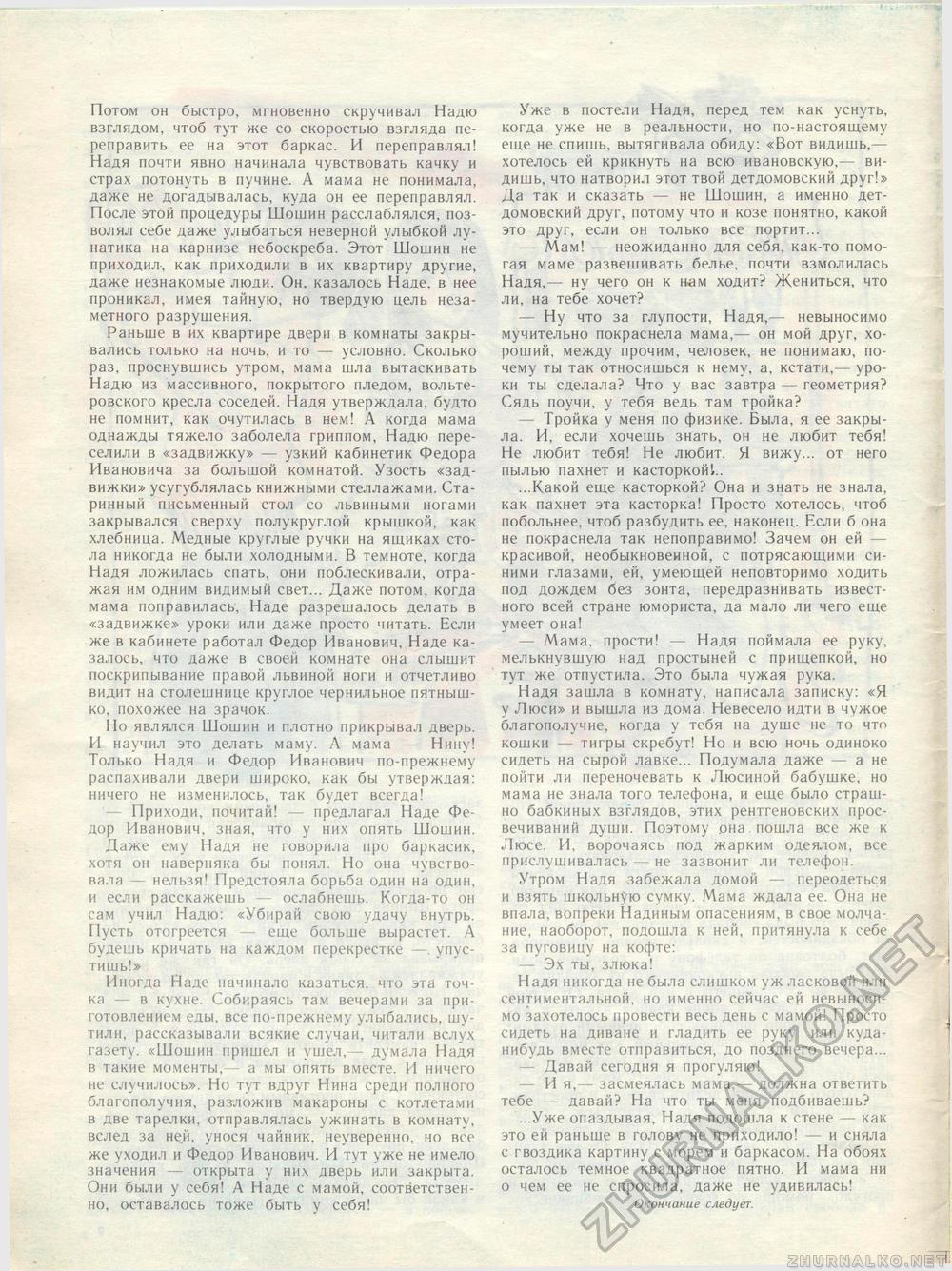
Потом он быстро, мгновенно скручивал Надю взглядом, чтоб тут же со скоростью взгляда переправить ее на этот баркас. И переправлял! Надя почти явно начинала чувствовать качку и страх потонуть в пучине. А мама не понимала, даже не догадывалась, куда он ее переправлял. После этой процедуры Шошин расслаблялся, позволял себе даже улыбаться неверной улыбкой лунатика на карнизе небоскреба. Этот Шошин не приходил-, как приходили в их квартиру другие, даже незнакомые люди. Он, казалось Наде, в нее проникал, имея тайную, но твердую цель незаметного разрушения. Раньше в их квартире двери в комнаты закрывались только на ночь, и то — условно. Сколько раз, проснувшись утром, мама шла вытаскивать Надю из массивного, покрытого пледом, вольтеровского кресла соседей. Надя утверждала, будто не помнит, как очутилась в нем! А когда мама однажды тяжело заболела гриппом, Надю переселили в «задвижку» — узкий кабинетик Федора Ивановича за большой комнатой. Узость «задвижки» усугублялась книжными стеллажами. Старинный письменный стол со львиными ногами закрывался сверху полукруглой крышкой, как хлебница. Медные круглые ручки на ящиках стола никогда не были холодными. В темноте, когда Надя ложилась спать, они поблескивали, отражая им одним видимый свет... Даже потом, когда мама поправилась, Наде разрешалось делать в «задвижке» уроки или даже просто читать. Если же в кабинете работал Федор Иванович, Наде казалось, что даже в своей комнате она слышит поскрипывание правой львиной ноги и отчетливо видит на столешнице круглое чернильное пятнышко, похожее на зрачок. Но являлся Шошин и плотно прикрывал дверь. И научил это делать маму. А мама — Нину! Только Надя и Федор Иванович по-прежнему распахивали двери широко, как бы утверждая: ничего не изменилось, так будет всегда! — Приходи, почитай! — предлагал Наде Федор Иванович, зная, что у них опять Шошин. Даже ему Надя не говорила про баркасик, хотя он наверняка бы понял. Но она чувствовала — нельзя! Предстояла борьба один на один, и если расскажешь — ослабнешь. Когда-то он сам учил Надю: «Убирай свою удачу внутрь. Пусть отогреется — еще больше вырастет. А будешь кричать на каждом перекрестке —. упустишь!» Иногда Наде начинало казаться, что эта точка — в кухне. Собираясь там вечерами за приготовлением еды, все по-прежнему улыбались, шутили, рассказывали всякие случаи, читали вслух газету. «Шошин пришел и ушел,— думала Надя в такие моменты,— а мы опять вместе. И ничего не случилось». Но тут вдруг Нина среди полного благополучия, разложив макароны с котлетами в две тарелки, отправлялась ужинать в комнату, вслед за ней, унося чайник, неуверенно, но все же уходил и Федор Иванович. И тут уже не имело значения — открыта у них дверь или закрыта. Они были у себя! А Наде с мамой, соответственно, оставалось тоже быть у себя! Уже в постели Надя, перед тем как уснуть, когда уже не в реальности, но по-настоящему еще не спишь, вытягивала обиду: «Вот видишь,— хотелось ей крикнуть на всю ивановскую,— видишь, что натворил этот твой детдомовский друг!» Да так и сказать — не Шошин, а именно детдомовский друг, потому что и козе понятно, какой это друг, если он только все портит... — Мам! — неожиданно для себя, как-то помогая маме развешивать белье, почти взмолилась Надя,— ну чего он к нгм ходит? Жениться, что ли, на тебе хочет? — Ну что за глупости, Надя,— невыносимо мучительно покраснела мама,— он мой друг, хороший, между прочим, человек, не понимаю, почему ты так относишься к нему, а, кстати,— уроки ты сделала? Что у вас завтра — геометрия? Сядь поучи, у тебя ведь там тройка? — Тройка у меня по физике. Была, я ее закрыла. И, если хочешь знать, он не любит тебя! Не любит тебя! Не любит. Я вижу... от него пылью пахнет и касторкой!.. ...Какой еще касторкой? Она и знать не знала, как пахнет эта касторка! Просто хотелось, чтоб побольнее, чтоб разбудить ее, наконец. Если б она не покраснела так непоправимо! Зачем он ей — красивой, необыкновенной, с потрясающими синими глазами, ей, умеющей неповторимо ходить под дождем без зонта, передразнивать известного всей стране юмориста, да мало ли чего еще умеет она! — Мама, прости! — Надя поймала ее руку, мелькнувшую над простыней с прищепкой, но тут же отпустила. Это была чужая рука. Надя зашла в комнату, написала записку: «Я у Люси» и вышла из дома. Невесело идти в чужое благополучие, когда у тебя на душе не то что кошки — тигры скребут! Но и всю ночь одиноко сидеть на сырой лавке... Подумала даже — а не пойти ли переночевать к Люсиной бабушке, но мама не знала того телефона, и еще было страшно бабкиных взглядов, этих рентгеновских просвечиваний души. Поэтому .она. пошла все же к Люсе. И, ворочаясь под жарким одеялом, все прислушивалась — не зазвонит ли телефон. Утром Надя забежала домой — переодеться и взять школьную сумку. Мама ждала ее. Она не впала, вопреки Надиным опасениям, в свое молчание, наоборот, подошла к ней, притянула к себе за пуговицу на кофте: — Эх ты, злюка! Надя никогда не была слишком уж ласковой или сентиментальной, но именно сейчас ей невыносимо захотелось провести весь день с мамой! Просто сидеть на диване и гладить ее руку или куда-нибудь вместе отправиться, до позднего вечера... — Давай сегодня я прогуляю! — И я,— засмеялась мама,— должна ответить тебе — давай? На что ты меня подбиваешь? ...Уже опаздывая, Надя подошла к стене — как это ей раньше в голову не приходило! — и сняла с гвоздика картину с морем и баркасом. На обоях осталось темное квадратное пятно. И мама ни о чем ее не спросила, даже не удивилась! Окончание следует. |








