Костёр 1991-12, страница 30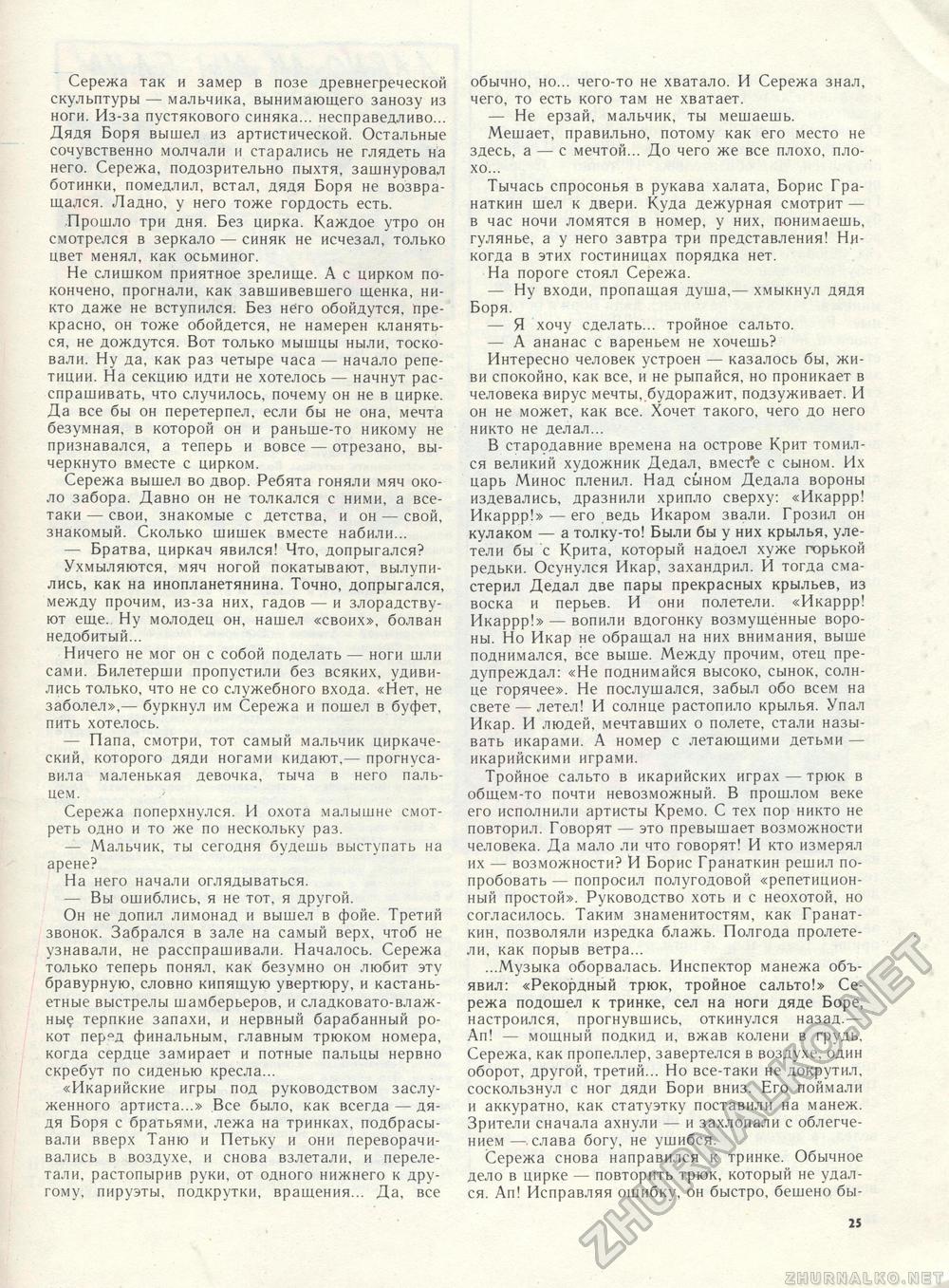
Сережа так и замер в позе древнегреческой скульптуры — мальчика, вынимающего занозу из ноги. Из-за пустякового синяка... несправедливо... Дядя Боря вышел из артистической. Остальные сочувственно молчали и старались не глядеть на него. Сережа, подозрительно пыхтя, зашнуровал ботинки, помедлил, встал, дядя Боря не возвращался. Ладно, у него тоже гордость есть. Прошло три дня. Без цирка. Каждое утро он смотрелся в зеркало — синяк не исчезал, только цвет менял, как осьминог. Не слишком приятное зрелище. А с цирком покончено, прогнали, как завшивевшего щенка, никто даже не вступился. Без него обойдутся, прекрасно, он тоже обойдется, не намерен кланяться, не дождутся. Вот только мышцы ныли, тосковали. Ну да, как раз четыре часа — начало репетиции. На секцию идти не хотелось — начнут расспрашивать, что случилось, почему он не в цирке. Да все бы он перетерпел, если бы не она, мечта безумная, в которой он и раньше-то никому не признавался, а теперь и вовсе — отрезано, вычеркнуто вместе с цирком. Сережа вышел во двор. Ребята гоняли мяч около забора. Давно он не толкался с ними, а все-таки — свои, знакомые с детства, и он — свой, знакомый. Сколько шишек вместе набили... — Братва, циркач явился! Что, допрыгался? Ухмыляются, мяч ногой покатывают, вылупились, как на инопланетянина. Точно, допрыгался, между прочим, из-за них, гадов — и злорадствуют еще. Ну молодец он, нашел «своих», болван недобитый... Ничего не мог он с собой поделать — ноги шли сами. Билетерши пропустили без всяких, удивились только, что не со служебного входа. «Нет, не заболел»,— буркнул им Сережа и пошел в буфет, пить хотелось. — Папа, смотри, тот самый мальчик циркаческий, которого дяди ногами кидают,— прогнусавила маленькая девочка, тыча в него пальцем. Сережа поперхнулся. И охота малышне смотреть одно и то же по нескольку раз. — Мальчик, ты сегодня будешь выступать на арене? На него начали оглядываться. — Вы ошиблись, я не тот, я другой. Он не допил лимонад и вышел в фойе. Третий звонок. Забрался в зале на самый верх, чтоб не узнавали, не расспрашивали. Началось. Сережа только теперь понял, как безумно он любит эту бравурную, словно кипящую увертюру, и кастань- етные выстрелы шамберьеров, и сладковато-влажны £ терпкие запахи, и нервный барабанный рокот пер^д финальным, главным трюком номера, когда сердце замирает и потные пальцы нервно скребут по сиденью кресла... «Икарийские игры под руководством заслуженного артиста...» Все было, как всегда—дядя Боря с братьями, лежа на тринках, подбрасывали вверх Таню и Петьку и они переворачивались в воздухе, и снова взлетали, и перелетали, растопырив руки, от одного нижнего к другому, пируэты, подкрутки, вращения... Да, все обычно, но... чего-то не хватало. И Сережа знал, чего, то есть кого там не хватает. — Не ерзай, мальчик, ты мешаешь. Мешает, правильно, потому как его место не здесь, а — с мечтой... До чего же все плохо, плохо... Тычась спросонья в рукава халата, Борис Гра-наткин шел к двери. Куда дежурная смотрит — в час ночи ломятся в номер, у них, понимаешь, гулянье, а у него завтра три представления! Никогда в этих гостиницах порядка нет. На пороге стоял Сережа. — Ну входи, пропащая душа,— хмыкнул дядя Боря. — Я хочу сделать... тройное сальто. — А ананас с вареньем не хочешь? Интересно человек устроен — казалось бы, живи спокойно, как все, и не рыпайся, но проникает в человека вирус мечты, будоражит, подзуживает. И он не может, как все. Хочет такого, чего до него никто не делал... В стародавние времена на острове Крит томился великий художник Дедал, вмес/е с сыном. Их царь Минос пленил. Над сыном Дедала вороны издевались, дразнили хрипло сверху: «Икаррр! Икаррр!» — его ведь Икаром звали. Грозил он кулаком — а толку-то! Были бы у них крылья, улетели бы с Крита, который надоел хуже горькой редьки. Осунулся Икар", захандрил. И тогда смастерил Дедал две пары прекрасных крыльев, из воска и перьев. И они полетели. «Икаррр! Икаррр!» — вопили вдогонку возмущенные вороны. Но Икар не обращал на них внимания, выше поднимался, все выше. Между прочим, отец предупреждал: «Не поднимайся высоко, сынок, солнце горячее». Не послушался, забыл обо всем на свете — летел! И солнце растопило крылья. Упал Икар. И людей, мечтавших о полете, стали называть икарами. А номер с летающими детьми — икарийскими играми. Тройное сальто в икарийских играх — трюк в общем-то почти невозможный. В прошлом веке его исполнили артисты Кремо. С тех пор никто не повторил. Говорят — это превышает возможности человека. Да мало ли что говорят! И кто измерял их — возможности? И Борис Гранаткин решил попробовать — попросил полугодовой «репетиционный простой». Руководство хоть и с неохотой, но согласилось. Таким знаменитостям, как Гранаткин, позволяли изредка блажь. Полгода пролетели, как порыв ветра... ...Музыка оборвалась. Инспектор манежа объявил: «Рекордный трюк, тройное сальто!» Сережа подошел к тринке, сел на ноги дяде Боре, настроился, прогнувшись, откинулся назад.— Ап! — мощный подкид и, вжав колени в грудь, Сережа, как пропеллер, завертелся в воздухе, один оборот, другой, третий... Но все-таки не докрутил, соскользнул с ног дяди Бори вниз. Его поймали и аккуратно, как статуэтку поставили на манеж. Зрители сначала ахнули — и захлопали с облегчением —.слава богу, не ушибся. Сережа снова направился к тринке. Обычное дело в цирке — повторить трюк, который не удался. Ап! Исправляя ошибку, он быстро, бешено бы 25 |








