Костёр 1996-01, страница 20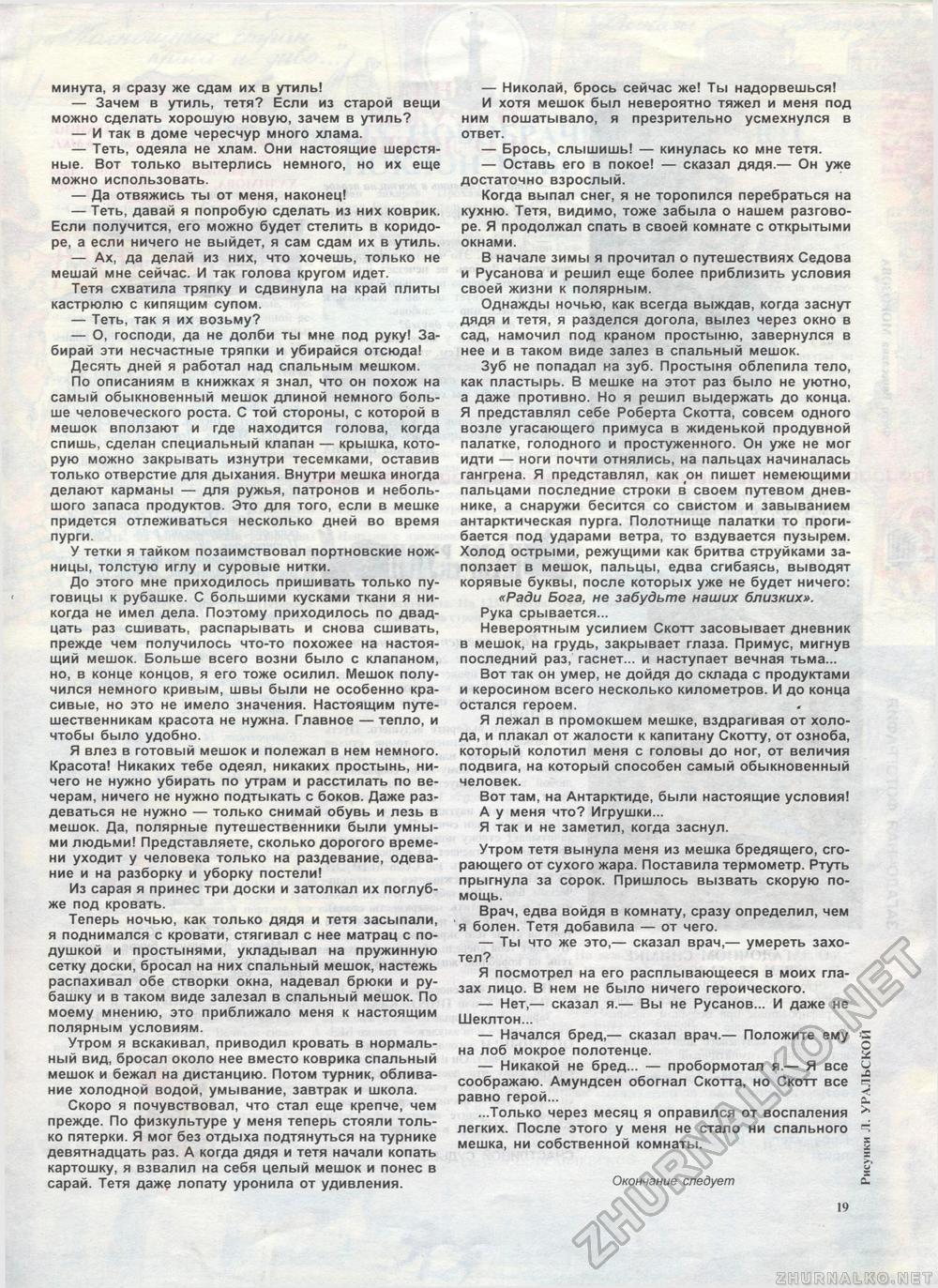
минута, я сразу же сдам их в утиль! — Зачем в утиль, тетя? Если из старой вещи можно сделать хорошую новую, зачем в утиль? — И так в доме чересчур много хлама. — Теть, одеяла не хлам. Они настоящие шерстяные. Вот только вытерлись немного, но их еще можно использовать. — Да отвяжись ты от меня, наконец! — Теть, давай я попробую сделать из них коврик. Если получится, его можно будет стелить в коридоре, а если ничего не выйдет, я сам сдам их в утиль. — Ах, да делай из них, что хочешь, только не мешай мне сейчас. И так голова кругом идет. Тетя схватила тряпку и сдвинула на край плиты кастрюлю с кипящим супом. — Теть, так я их возьму? — О, господи, да не долби ты мне под руку! Забирай эти несчастные тряпки и убирайся отсюда! Десять дней я работал над спальным мешком. По описаниям в книжках я знал, что он похож на самый обыкновенный мешок длиной немного больше человеческого роста. С той стороны, с которой в мешок вползают и где находится голова, когда спишь, сделан специальный клапан — крышка, которую можно закрывать изнутри тесемками, оставив только отверстие для дыхания. Внутри мешка иногда делают карманы — для ружья, патронов и небольшого запаса продуктов. Это для того, если в мешке придется отлеживаться несколько дней во время пурги. У тетки я тайком позаимствовал портновские ножницы, толстую иглу и суровые нитки. До этого мне приходилось пришивать только пуговицы к рубашке. С большими кусками ткани я никогда не имел дела. Поэтому приходилось по двадцать раз сшивать, распарывать и снова сшивать, прежде чем получилось что-то похожее на настоящий мешок. Больше всего возни было с клапаном, но, в конце концов, я его тоже осилил. Мешок получился немного кривым, швы были не особенно красивые, но это не имело значения. Настоящим путешественникам красота не нужна. Главное — тепло, и чтобы было удобно. Я влез в готовый мешок и полежал в нем немного. Красота! Никаких тебе одеял, никаких простынь, ничего не нужно убирать по утрам и расстилать по вечерам, ничего не нужно подтыкать с боков. Даже раздеваться не нужно — только снимай обувь и лезь в мешок. Да, полярные путешественники были умными людьми! Представляете, сколько дорогого времени уходит у человека только на раздевание, одевание и на разборку и уборку постели! Из сарая я принес три доски и затолкал их поглубже под кровать. Теперь ночью, как только дядя и тетя засыпали, я поднимался с кровати, стягивал с нее матрац с подушкой и простынями, укладывал на пружинную сетку доски, бросал на них спальный мешок, настежь распахивал обе створки окна, надевал брюки и рубашку и в таком виде залезал в спальный мешок. По моему мнению, это приближало меня к настоящим полярным условиям. Утром я вскакивал, приводил кровать в нормальный вид, бросал около нее вместо коврика спальный мешок и бежал на дистанцию. Потом турник, обливание холодной водой, умывание, завтрак и школа. Скоро я почувствовал, что стал еще крепче, чем прежде. По физкультуре у меня теперь стояли только пятерки. Я мог без отдыха подтянуться на турнике девятнадцать раз. А когда дядя и тетя начали копать картошку, я взвалил на себя целый мешок и понес в сарай. Тетя даже лопату уронила от удивления. — Николай, брось сейчас же! Ты надорвешься! И хотя мешок был невероятно тяжел и меня под ним пошатывало, я презрительно усмехнулся в ответ. — Брось, слышишь! — кинулась ко мне тетя. — Оставь его в покое! — сказал дядя.— Он уже достаточно взрослый. Когда выпал снег, я не торопился перебраться на кухню. Тетя, видимо, тоже забыла о нашем разговоре. Я продолжал спать в своей комнате с открытыми окнами. В начале зимы я прочитал о путешествиях Седова и Русанова и решил еще более приблизить условия своей жизни к полярным. Однажды ночью, как всегда выждав, когда заснут дядя и тетя, я разделся догола, вылез через окно в сад, намочил под краном простыню, завернулся в нее и в таком виде залез в спальный мешок. Зуб не попадал на зуб. Простыня облепила тело, как пластырь. В мешке на этот раз было не уютно, а даже противно. Но я решил выдержать до конца. Я представлял себе Роберта Скотта, совсем одного возле угасающего примуса в жиденькой продувной палатке, голодного и простуженного. Он уже не мог идти — ноги почти отнялись, на пальцах начиналась гангрена. Я представлял, как он пишет немеющими пальцами последние строки в своем путевом дневнике, а снаружи бесится со свистом и завыванием антарктическая пурга. Полотнище палатки то прогибается под ударами ветра, то вздувается пузырем. Холод острыми, режущими как бритва струйками заползает в мешок, пальцы, едва сгибаясь, выводят корявые буквы, после которых уже не будет ничего: «Ради Бога, не забудьте наших близких». Рука срывается... Невероятным усилием Скотт засовывает дневник в мешок, на грудь, закрывает глаза. Примус, мигнув последний раз, гаснет... и наступает вечная тьма... Вот так он умер, не дойдя до склада с продуктами и керосином всего несколько километров. И до конца остался героем. Я лежал в промокшем мешке, вздрагивая от холода, и плакал от жалости к капитану Скотту, от озноба, который колотил меня с головы до ног, от величия подвига, на который способен самый обыкновенный человек. Вот там, на Антарктиде, были настоящие условия! А у меня что? Игрушки... Я так и не заметил, когда заснул. Утром тетя вынула меня из мешка бредящего, сгорающего от сухого жара. Поставила термометр. Ртуть прыгнула за сорок. Пришлось вызвать скорую помощь. Врач, едва войдя в комнату, сразу определил, чем я болен. Тетя добавила — от чего. — Ты что же это,— сказал врач,— умереть захотел? Я посмотрел на его расплывающееся в моих глазах лицо. В нем не было ничего героического. — Нет,— сказал я.— Вы не Русанов... И даже не Шеклтон... — Начался бред,— сказал врач.— Положите ему >5 на лоб мокрое полотенце. 2 — Никакой не бред... — пробормотал я.— Я все и соображаю. Амундсен обогнал Скотта, но Скотт все п равно герой... £ ...Только через месяц я оправился от воспаления * легких. После этого у меня не стало ни спального =i мешка, ни собственной комнаты. £ х (j Окончание следует о-. 19 |








