Пионер 1956-03, страница 11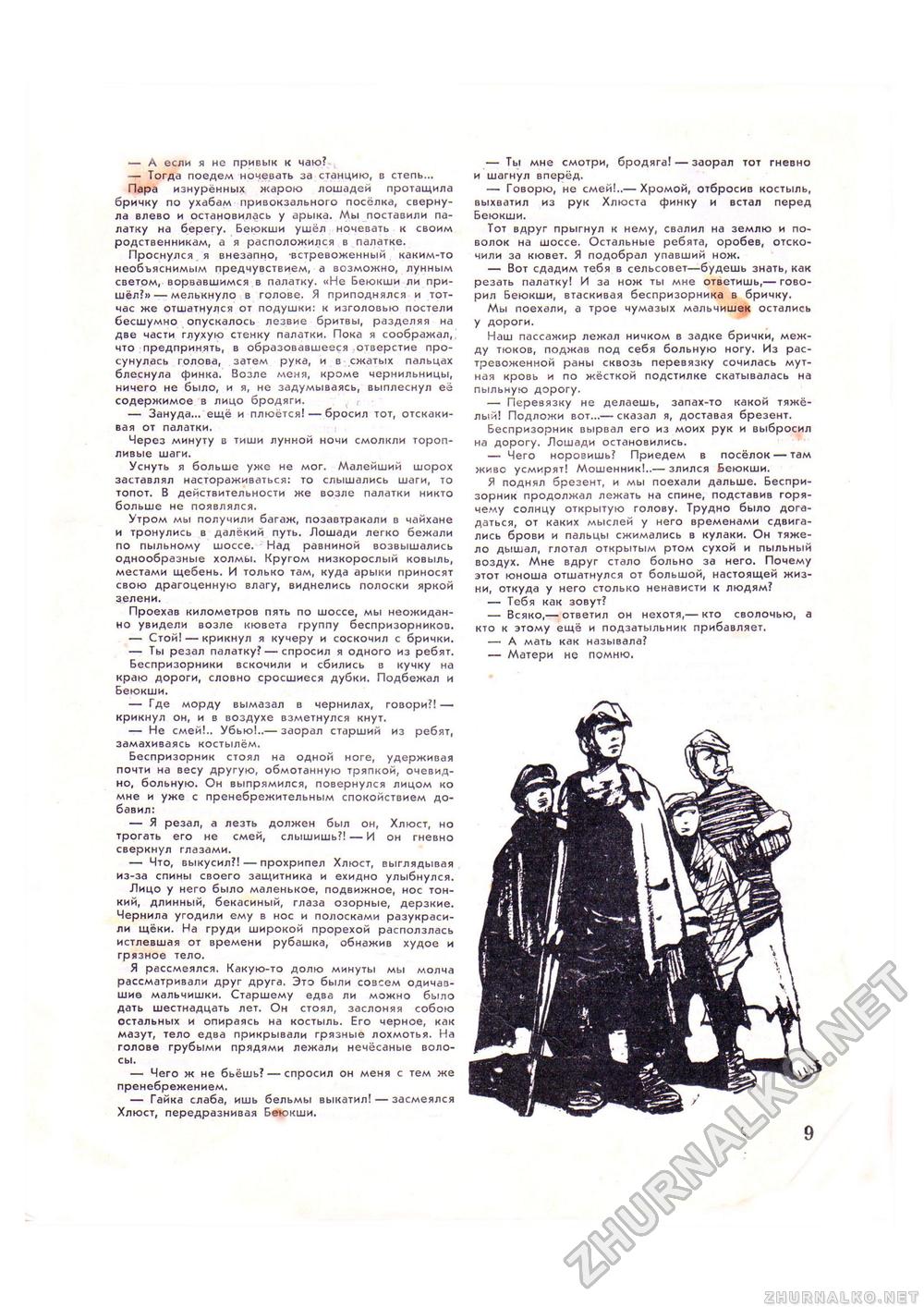
— А если я не привык к чаю? — Тогда поедем ночевать за станцию, в степь... Пара изнурённых жарою лошадей протащила бричку по ухабам привокзального посёлка, свернула влево и остановилась у арыка. Мы поставили палатку на берегу. Беюкши ушёл ночевать к своим родственникам, а я расположился в палатке. Проснулся я внезапно, -встревоженный каким-то необъяснимым предчувствием, а возможно, лунным светом, ворвавшимся в палатку. «Не Беюкши ли пришёл?»— мелькнуло в голове. Я приподнялся и тотчас же отшатнулся от подушки: к изголовью постели бесшумно опускалось лезвие бритвы, разделяя на две части глухую стенку палатки. Пока я соображал, что предпринять, в образовавшееся отверстие просунулась голова, затем рука, и в сжатых пальцах блеснула финка. Возле меня, кроме чернильницы, ничего не было, и я, не задумываясь, выплеснул её содержимое в лицо бродяги. — Зануда... ещё и плюётся! — бросил тот, отскакивая от палатки. Через минуту в тиши лункой ночи смолкли торопливые шаги. Уснуть я больше уже не мог. Малейший шорох заставлял настораживаться: то слышались шаги, то топот. В действительности же возле палатки никто больше не появлялся. Утром мы получили багаж, позавтракали в чайхане и тронулись в далёкий путь. Лошади легко бежали по пыльному шоссе. Над равниной возвышались однообразные холмы. Кругом низкорослый ковыль, местами щебень. И только там, куда арыки приносят свою драгоценную влагу, виднелись полоски яркой зелени. Проехав километров пять по шоссе, мы неожиданно увидели возле кювета группу беспризорников. — Стой! — крикнул я кучеру и соскочил с брички. — Ты резал палатку? — спросил я одного из ребят. Беспризорники вскочили и сбились в кучку на краю дороги, словно сросшиеся дубки. Подбежал и Беюкши. — Где морду вымазал в чернилах, говори?! — крикнул он, и в воздухе взметнулся кнут. — Не смей!.. Убью!..— заорал старший из ребят, замахиваясь костылём. Беспризорник стоял на одной ноге, удерживая почти на весу другую, обмотанную тряпкой, очевидно, больную. Он выпрямился, повернулся лицом ко мне и уже с пренебрежительным спокойствием добавил: — Я резал, а лезть должен был он, Хлюст, но трогать его не смей, слышишь?! — И он гневно сверкнул глазами. — Что, выкусил?! — прохрипел Хлюст, выглядывая из-за спины своего защитника и ехидно улыбнулся. Лицо у него было маленькое, подвижное, нос тонкий, длинный, бекасиный, глаза озорные, дерзкие. Чернила угодили ему в нос и полосками разукрасили щёки. На груди широкой прорехой расползлась истлевшая от времени рубашка, обнажив худое и грязное тело. Я рассмеялся. Какую-то долю минуты мы молча рассматривали друг друга. Это были созсем одичавшие мальчишки. Старшему едва ли можно было дать шестнадцать лет. Он стоял, заслоняя собою остальных и опираясь на костыль. Его черное, как мазут, тело едва прикрывали грязные лохмотья. На голове грубыми прядями лежали нечёсаные волосы. — Чего ж не бьёшь? — спросил он меня с тем же пренебрежением. — Гайка слаба, ишь бельмы выкатил! — засмеялся Хлюст, передразнивая Беюкши. — Ты мне смотри, бродяга! — заорал тот гневно и шагнул вперёд. — Говорю, не смей!..— Хромой, отбросив костыль, выхватил из рук Хлюста финку и встал перед Беюкши. Тот вдруг прыгнул к нему, свалил на землю и поволок на шоссе. Остальные ребята, оробев, отскочили за кювет. Я подобрал упавший нож. — Вот сдадим тебя в сельсовет—будешь знать, как резать палатку! И за нож ты мне ответишь,— говорил Беюкши, втаскивая беспризорника в бричку. Мы поехали, а трое чумазых мальчишек остались у дороги. Наш пассажир лежал ничком в задке брички, между тюков, поджав под себя больную ногу. Из растревоженной раны сквозь перевязку сочилась мутная кровь и по жёсткой подстилке скатывалась на пыльную дорогу. — Перевязку не делаешь, запах-то какой тяжёлый! Подложи вот...— сказал я, доставая брезент. Беспризорник вырвал его из моих рук и выбросил на дорогу. Лошади остановились. — Чего норовишь? Приедем в посёлок — там живо усмирят! Мошенник!..— злился Беюкши. Я поднял брезент, и мы поехали дальше. Беспризорник продолжал лежать на спине, подставив горячему солнцу открытую голову. Трудно было догадаться, от каких мыслей у него временами сдвигались брови и пальцы сжимались в кулаки. Он тяжело дышал, глотал открытым ртом сухой и пыльный воздух. Мне вдруг стало больно за него. Почему этот юноша отшатнулся от большой, настоящей жизни, откуда у него столько ненависти к людям? — Тебя как зовут? — Всяко,— ответил он нехотя,— кто сволочью, а кто к этому ещё и подзатыльник прибавляет. —- А мать как называла? — Матери не помню. 9 |








