Пионер 1987-12, страница 11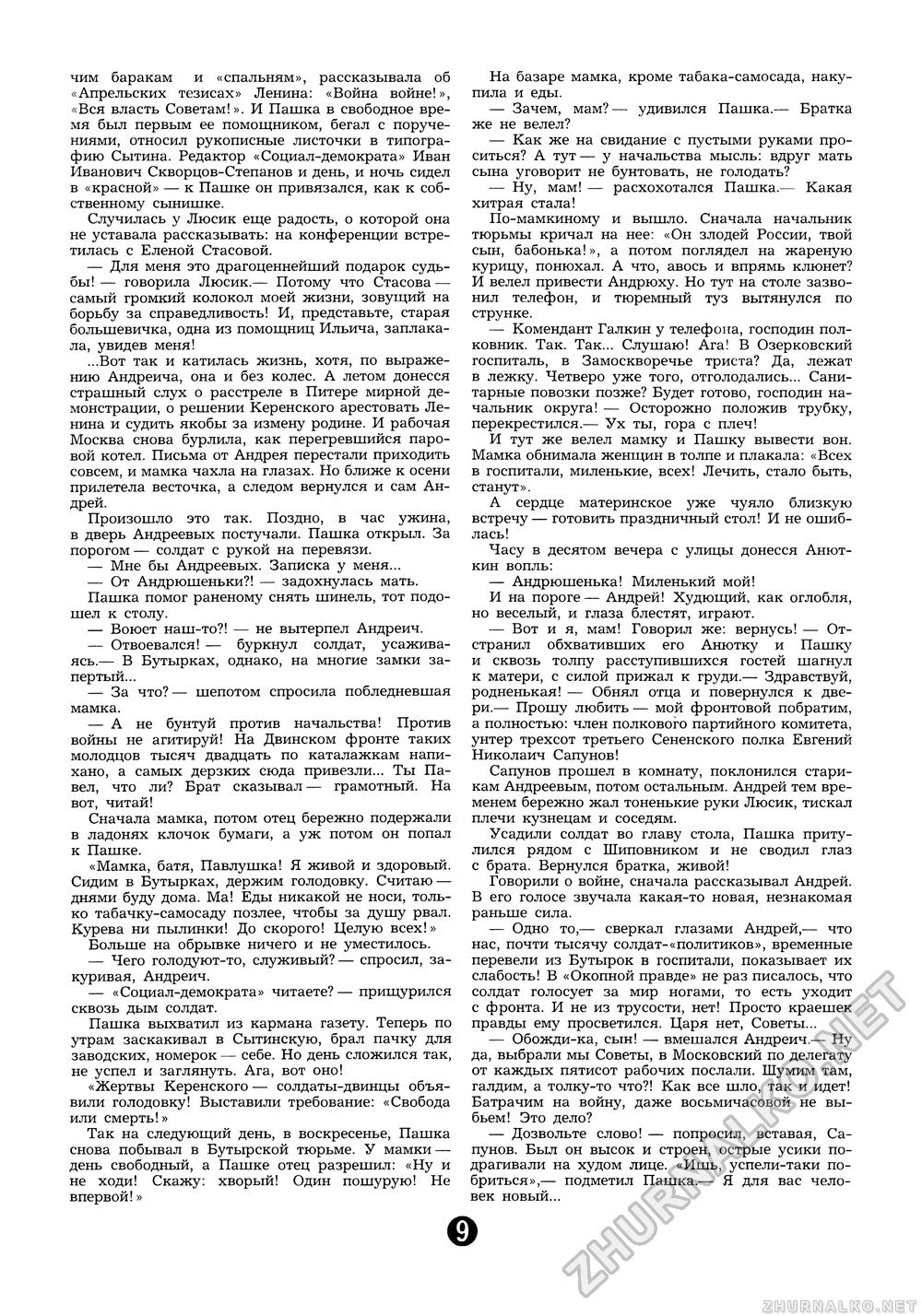
чим баракам и «спальням», рассказывала об «Апрельских тезисах» Ленина: «Война войне!», «Вся власть Советам!». И Пашка в свободное время был первым ее помощником, бегал с поручениями, относил рукописные листочки в типографию Сытина. Редактор «Социал-демократа» Иван Иванович Скворцов-Степанов и день, и ночь сидел в «красной» — к Пашке он привязался, как к собственному сынишке. Случилась у Люсик еще радость, о которой она не уставала рассказывать: на конференции встретилась с Еленой Стасовой. — Для меня это драгоценнейший подарок судьбы! — говорила Люсик.— Потому что Стасова — самый громкий колокол моей жизни, зовущий на борьбу за справедливость! И, представьте, старая большевичка, одна из помощниц Ильича, заплакала, увидев меня! ...Вот так и катилась жизнь, хотя, по выражению Андреича, она и без колес. А летом донесся страшный слух о расстреле в Питере мирной демонстрации, о решении Керенского арестовать Ленина и судить якобы за измену родине. И рабочая Москва снова бурлила, как перегревшийся паровой котел. Письма от Андрея перестали приходить совсем, и мамка чахла на глазах. Но ближе к осени прилетела весточка, а следом вернулся и сам Андрей. Произошло это так. Поздно, в час ужина, в дверь Андреевых постучали. Пашка открыл. За порогом — солдат с рукой на перевязи. — Мне бы Андреевых. Записка у меня... — От Андрюшеньки?! — задохнулась мать. Пашка помог раненому снять шинель, тот подошел к столу. — Воюет наш-то?! — не вытерпел Андреич. — Отвоевался! — буркнул солдат, усаживаясь.— В Бутырках, однако, на многие замки запертый... — За что?— шепотом спросила побледневшая мамка. — А не бунтуй против начальства! Против войны не агитируй! На Двинском фронте таких молодцов тысяч двадцать по каталажкам напихано, а самых дерзких сюда привезли... Ты Павел, что ли? Брат сказывал — грамотный. На вот, читай! Сначала мамка, потом отец бережно подержали в ладонях клочок бумаги, а уж потом он попал к Пашке. «Мамка, батя, Павлушка! Я живой и здоровый. Сидим в Бутырках, держим голодовку. Считаю — днями буду дома. Ма! Еды никакой не носи, только табачку-самосаду позлее, чтобы за душу рвал. Курева ни пылинки! До скорого! Целую всех!» Больше на обрывке ничего и не уместилось. — Чего голодуют-то, служивый?— спросил, закуривая, Андреич. — «Социал-демократа» читаете?— прищурился сквозь дым солдат. Пашка выхватил из кармана газету. Теперь по утрам заскакивал в Сытинскую, брал пачку для заводских, номерок — себе. Но день сложился так, не успел и заглянуть. Ага, вот оно! «Жертвы Керенского — солдаты-двинцы объявили голодовку! Выставили требование: «Свобода или смерть!» Так на следующий день, в воскресенье, Пашка снова побывал в Бутырской тюрьме. У мамки — день свободный, а Пашке отец разрешил: «Ну и не ходи! Скажу: хворый! Один пошурую! Не впервой!» На базаре мамка, кроме табака-самосада, накупила и еды. — Зачем, мам?— удивился Пашка.— Братка же не велел? — Как же на свидание с пустыми руками проситься? А тут — у начальства мысль: вдруг мать сына уговорит не бунтовать, не голодать? — Ну, мам! — расхохотался Пашка.— Какая хитрая стала! По-мамкиному и вышло. Сначала начальник тюрьмы кричал на нее: «Он злодей России, твой сын, бабонька!», а потом поглядел на жареную курицу, понюхал. А что, авось и впрямь клюнет? И велел привести Андрюху. Но тут на столе зазвонил телефон, и тюремный туз вытянулся по струнке. — Комендант Галкин у телефона, господин полковник. Так. Так... Слушаю! Ага! В Озерковский госпиталь, в Замоскворечье триста? Да, лежат в лежку. Четверо уже того, отголодались... Санитарные повозки позже? Будет готово, господин начальник округа! — Осторожно положив трубку, перекрестился.— Ух ты, гора с плеч! И тут же велел мамку и Пашку вывести вон. Мамка обнимала женщин в толпе и плакала: «Всех в госпитали, миленькие, всех! Лечить, стало быть, станут». А сердце материнское уже чуяло близкую встречу — готовить праздничный стол! И не ошиблась! Часу в десятом вечера с улицы донесся Анют-кин вопль: — Андрюшенька! Миленький мой! И на пороге — Андрей! Худющий, как оглобля, но веселый, и глаза блестят, играют. — Вот и я, мам! Говорил же: вернусь! — Отстранил обхвативших его Анютку и Пашку и сквозь толпу расступившихся гостей шагнул к матери, с силой прижал к груди.— Здравствуй, родненькая! — Обнял отца и повернулся к двери.— Прошу любить — мой фронтовой побратим, а полностью: член полкового партийного комитета, унтер трехсот третьего Сененского полка Евгений Николаич Сапунов! Сапунов прошел в комнату, поклонился старикам Андреевым, потом остальным. Андрей тем временем бережно жал тоненькие руки Люсик, тискал плечи кузнецам и соседям. Усадили солдат во главу стола, Пашка притулился рядом с Шиповником и не сводил глаз с брата. Вернулся братка, живой! Говорили о войне, сначала рассказывал Андрей. В его голосе звучала какая-то новая, незнакомая раньше сила. — Одно то,— сверкал глазами Андрей,— что нас, почти тысячу солдат-«политиков», временные перевели из Бутырок в госпитали, показывает их слабость! В «Окопной правде» не раз писалось, что солдат голосует за мир ногами, то есть уходит с фронта. И не из трусости, нет! Просто краешек правды ему просветился. Царя нет, Советы... — Обожди-ка, сын! — вмешался Андреич.— Ну да, выбрали мы Советы, в Московский по делегату от каждых пятисот рабочих послали. Шумим там, галдим, а толку-то что?! Как все шло, так и идет! Батрачим на войну, даже восьмичасовой не выбьем! Это дело? — Дозвольте слово! — попросил, вставая, Сапунов. Был он высок и строен, острые усики подрагивали на худом лице. «Ишь, успели-таки побриться»,— подметил Пашка.— Я для вас человек новый... о |








