Пионер 1988-07, страница 36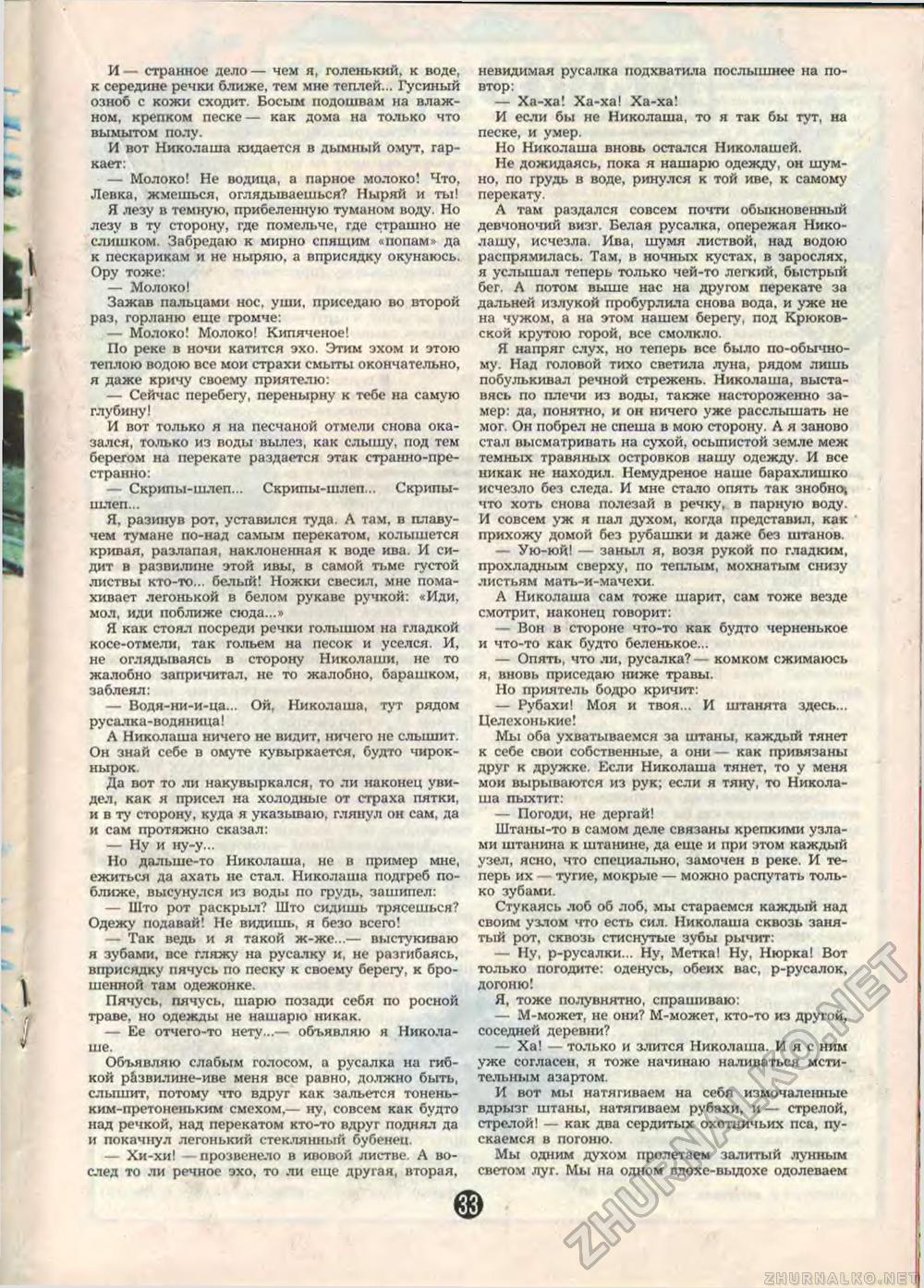
И — странное дело — чем я, голенький, к воде, к середине речки ближе, тем мне теплей... Гусиный озноб с кожи сходит. Босым подошвам на влажном, крепком песке — как дома на только что вымытом полу. И вот Николаша кидается в дымный омут, гаркает: — Молоко! Не водица, а парное молоко! Что, Левка, жмешься, оглядываешься? Ныряй и ты! Я лезу в темную, приведенную туманом воду. Но лезу в ту сторону, где помельче, где страшно не слишком. Забредаю к мирно спящим «попам* да к пескарикам и не ныряю, а вприсядку окунаюсь. Ору тоже: — Молоко! Зажав пальцами нос, уши, приседаю во второй раз, горланю еще громче: — Молоко! Молоко! Кипяченое! По реке в ночи катится эхо. Этим эхом и этою теплою водою все мои страхи смыты окончательно, я даже кричу своему приятелю: — Сейчас перебегу, перенырну к тебе на самую глубину! И вот только я на песчаной отмели снова оказался, только из воды вылез, как слышу, под тем берегом на перекате раздается этак странно-престранно: — Скрип ы-шлеп... Скрипы-шлеп... Скрипы-шлеп... Я, разинув рот, уставился туда. А там, в плавучем тумане по-над самым перекатом, колышется кривая, разлапая, наклоненная к воде ива. И сидит в развилине этой ивы, в самой тьме густой листвы кто-то... белый! Ножки свесил, мне помахивает легонькой в белом рукаве ручкой: «Иди, мол, иди поближе сюда...» Я как стоял посреди речки голышом на гладкой косе-отмели, так гольем на песок и уселся. И, не оглядываясь в сторону Николаши, не то жалобно запричитал, не то жалобно, барашком, заблеял: — Водя-ни-и-ца... Ой, Николаша, тут рядом русалка-водяница! А Николаша ничего не видит, ничего не слышит. Он знай себе в омуте кувыркается, будто чирок-нырок. Да вот то ли накувыркался, то ли наконец увидел, как я присел на холодные от страха пятки, и в ту сторону, куда я указываю, глянул он сам, да и сам протяжно сказал: — Ну и ну-у... Но дальше-то Николаша, не в пример мне, ежиться да ахать не стал. Николаша подгреб поближе, высунулся из воды по грудь, зашипел: — Што рот раскрыл? Што сидишь трясешься? Одежу подавай! Не видишь, я безо всего! — Так ведь и я такой ж-же...— выстукиваю я зубами, все гляжу на русалку и, не разгибаясь, вприсядку пячусь по песку к своему берегу, к брошенной там одежонке. Пячусь, пячусь, шарю позади себя по росной траве, но одежды не нашарю никак. — Ее отчего-то нету...— объявляю я Иикола-ше. Объявляю слабым голосом, а русалка на гибкой р&звилине-иве меня все равно, должно быть, слышит, потому что вдруг как зальется тонень-ким-претоненьким смехом,— ну, совсем как будто над речкой, над перекатом кто-то вдруг поднял да и покачнул легонький стеклянный бубенец. — Хи-хи! прозвенело в ивовой листве. А вослед то ли речное эхо, то ли еще другая, вторая, невидимая русалка подхватила послышнее на повтор: — Ха-ха! Ха-ха! Ха-ха! И если бы не Николаша, то я так бы тут, на песке, и умер. Но Николаша вновь остался Николашей. Не дожидаясь, пока я нашарю одежду, он шумно, по грудь в воде, ринулся к той иве, к самому перекату. А там раздался совсем почти обыкновенный девчоночий визг. Белая русалка, опережая Нико-лашу, исчезла. Ива, шумя листвой, над водою распрямилась. Там, в ночных кустах, в зарослях, я услышал теперь только чей-то легкий, быстрый бег. А потом выше нас на другом перекате за дальней излукой пробурлила снова вода, и уже не на чужом, а на этом нашем берегу, под Крюковской крутою горой, все смолкло. Я напряг слух, но теперь все было по-обычному. Над головой тихо светила .пуна, рядом лишь побулькивал речной стрежень. Николаша, выставись по плечи из воды, также настороженно замер: да, понятно, и он ничего уже расслышать не мог. Он побрел не спеша в мою сторону. А я заново стал высматривать на сухой, осыпистой земле меж темных травяных островков нашу одежду. И все никак не находил. Немудреное наше барахлишко исчезло без следа. И мне стало опять так знобно; что хоть снова полезай в речку, в парную воду. И совсем уж я пал духом, когда представил, как прихожу домой без рубашки и даже без штанов. — Ую-юй! — заныл я, возя рукой по гладким, прохладным сверху, по теплым, мохнатым снизу листьям мать-и-мачехи. А Николаша сам тоже шарит, сам тоже везде смотрит, наконец говорит: — Вон в стороне что-то как будто черненькое и что-то как будто беленькое... — Опять, что ли, русалка?— комком сжимаюсь я, вновь приседаю ниже травы. Но приятель бодро кричит: — Рубахи! Моя и твоя... И штанята здесь... Целехонькие! Мы оба ухватываемся за штаны, каждый тянет к себе свои собственные, а они — как привязаны друг к дружке. Если Николаша тянет, то у меня мои вырываются из рук; если я тяну, то Николаша пыхтит: — Погоди, не дергай! Штаны-то в самом деле связаны крепкими узлами штанина к штанине, да еще и при этом каждый узел, ясно, что специально, замочен в реке. И теперь их тугие, мокрые — можно распутать только зубами. Стукаясь лоб об лоб, мы стараемся каждый над своим узлом что есть сил. Николаша сквозь занятый рот, сквозь стиснутые зубы рычит: — Ну, р-русалки... Ну, Метка! Ну, Нюрка! Вот только погодите: оденусь, обеих вас, р-русалок, догоню! Я, тоже полувнятно, спрашиваю: — М-может, не они? М-может, кто-то из другой, соседней деревни? Ха! — только и злится Николаша. И я с ним уже согласен, я тоже начинаю наливаться мстительным азартом. И вот мы натягиваем на себя измочаленные вдрызг штаны, натягиваем рубахи, и — стрелой, стрелой! — как два сердитых охотничьих пса, пускаемся в погоню. Мы одним духом пролетаем залитый лунным светом луг. Мы на одном вдохе-выдохе одолеваем © |








