Пионер 1988-07, страница 8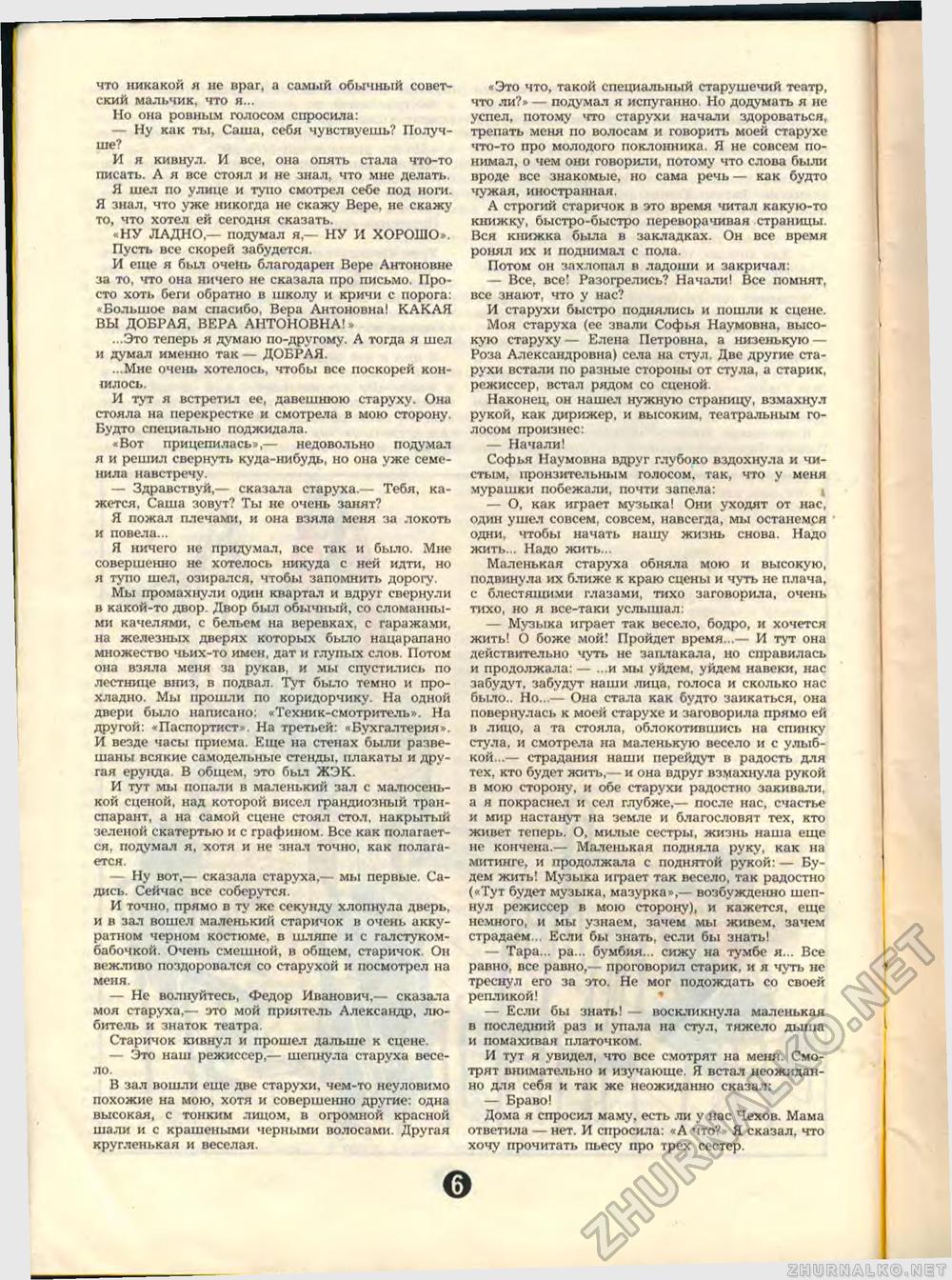
что никакой я но враг, а самый обычный советский мальчик, что я... Но она ровным голосом спросила: Ну как ты, Саша, себя чувствуешь? Получше? И я кивнул. И все, она опять стала что-то писать. А я все стоял и не знал, что мне делать. Я шел по улице и тупо смотрел себе под ноги. Я знал, что уже никогда не скажу Вере, не скажу то, что хотел ей сегодня сказать. «НУ ЛАДНО,— подумал я,— НУ И ХОРОШО». Пусть все скорей забудется. И еще я был очень благодарен Вере Антоновне за то, что она ничего не сказала про письмо. Просто хоть беги обратно в школу и кричи с порога: «Большое вам спасибо, Вера Антоновна! КАКАЯ ВЫ ДОБРАЯ. ВЕРА АНТОНОВНА!» ...Это теперь я думаю по-другому. А тогда я шел и думал именно так — ДОБРАЯ. ...Мне очень хотелось, чтобы все поскорей кончилось. И тут я встретил ее, давешнюю старуху. Она стояла на перекрестке и смотрела в мою сторону. Будто специально поджидала. «Вот прицепилась»,— недовольно подумал я и решил свернуть куда-нибудь, но она уже семенила навстречу. — Здравствуй,— сказала старуха.— Тебя, кажется, Саша зовут? Ты не очень занят? Я пожал плечами, и она взяла меня за локоть и повела... Я ничего не придумал, все так и было. Мне совершенно не хотелось никуда с ней идти, но я тупо шел, озирался, чтобы запомнить дорогу. Мы промахнули один квартал и вдруг свернули в какой-то двор. Двор был обычный, со сломанными качелями, с бельем на веревках, с гаражами, на железных дверях которых было нацарапано множество чьих-то имен, дат и глупых слов. Потом она взяла меня за рукав, и мы спустились по лестнице вниз, в подвал. Тут было темно и прохладно. Мы прошли по коридорчику. На одной двери было написано; «Техник-смотритель». На другой: «Паспортист». На третьей: «Бухгалтерия». И везде часы приема. Еще на стенах были развешаны всякие самодельные стенды, плакаты и другая ерунда. В общем, это был ЖЭК. И тут мы попали в маленький зал с малюсенькой сценой, над которой висел грандиозный транспарант, а на самой сцене стоял стол, накрытый зеленой скатертью и с графином. Все как полагается, подумал я, хотя и не знал точно, как полагается. — Ну вот,— сказала старуха,- мы первые. Садись. Сейчас все соберутся. И точно, прямо в ту же секунду хлопнула дверь, и в зал вошел маленький старичок в очень аккуратном черном костюме, в шляпе и с галстуком-бабочкой. Очень смешной, в общем, старичок. Он вежливо поздоровался со старухой и посмотрел на меня. — Не волнуйтесь, Федор Иванович,— сказала моя стар,уха,— это мой приятель Александр, любитель и знаток театра. Старичок кивнул и прошел дальше к сцене. — Это наш режиссер,— шепнула старуха весело. В зал вошли еще две старухи, чем-то неуловимо похожие на мою, хотя и совершенно другие: одна высокая, с тонким лицом, в огромной красной шали и с крашеными черными волосами. Другая кругленькая и веселая. «Это что, такой специальный старушечий театр, что ли?» — подумал я испуганно. Но додумать я не успел, потому что старухи начали здороваться, трепать меня по волосам и говорить моей старухе что-то про молодого поклонника. Я не совсем понимал, о чем они говорили, потому что слова были вроде все знакомые, но сама речь — как будто чужая, иностранная. А строгий старичок в это время читал какую-то книжку, быстро-быстро переворачивая страницы. Вся книжка была в закладках. Он все время ронял их и поднимал с пола. Потом он захлопал в ладоши и закричал: — Все. все! Разогрелись? Начали! Все помнят, все знают, что у нас? И старухи быстро поднялись и пошли к сцене. Моя старуха (ее звали Софья Наумовна, высокую старуху— Елена Петровна, а низенькую — Роза Александровна) села на стул. Две другие старухи встали по разные стороны от стула, а старик, режиссер, встал рядом со сценой. Наконец, он нашел нужную страницу, взмахнул рукой, как дирижер, и высоким, театральным голосом произнес: — Начали! Софья Наумовна вдруг глубоко вздохнула и чистым, пронзительным голосом, так, что у меня мурашки побежали, почти запела: — О, как играет музыка! Они уходят от нас, один ушел совсем, совсем, навсегда, мы останемся одни, чтобы начать нашу жизнь снова. Надо жить... Надо жить... Маленькая старуха обняла мою и высокую, подвинула их ближе к краю сцены и чуть не плача, с блестящими глазами, тихо заговорила, очень тихо, но я все-таки услышал: — Музыка играет так весело, бодро, и хочется жить! О боже мой! Пройдет время...— И тут она действительно чуть не заплакала, но справилась и продолжала: — ...и мы уйдем, уйдем навеки, нас забудут, забудут наши лица, голоса и сколько нас было.. Но...— Она стала как будто заикаться, она повернулась к моей старухе и заговорила прямо ей в лицо, а та стояла, облокотившись на спинку стула, и смотрела на маленькую весело и с улыбкой...— страдания наши перейдут в радость для тех. кто будет жить,- и она вдруг взмахнула рукой в мою сторону, и обе старухи радостно закивали, а я покраснел и сел глубже,— после нас, счастье и мир настанут на земле и благословят тех, кто живет теперь. О, милые сестры, жизнь наша еще не кончена.— Маленькая подняла руку, как на митинге, и продолжала с поднятой рукой: — Будем жить! Музыка играет так весело, так радостно («Тут будет музыка, мазурка»,— возбужденно шепнул режиссер в мою сторону), и кажется, еще немного, и мы узнаем, зачем мы живем, зачем страдаем... Если бы знать, если бы знать! — Тара... ра... бумбия... сижу на тумбе я... Все равно, все равно,- - проговорил старик, и я чуть не треснул его за это. Не мог подождать со своей репликой! — Если бы знать! воскликнула маленькая в последний раз и упала на стул, тяжело дыша и помахивая платочком. И тут я увидел, что все смотрят на меня. Смотрят внимательно и изучающе. Я встал неожиданно для себя и так же неожиданно сказал: — Браво! Дома я спросил маму, есть ли у нас Чехов. Мама ответила — нет. И спросила: «А что?» Я сказал, что хочу прочитать пьесу про трех сестер. О |








