Пионер 1988-08, страница 38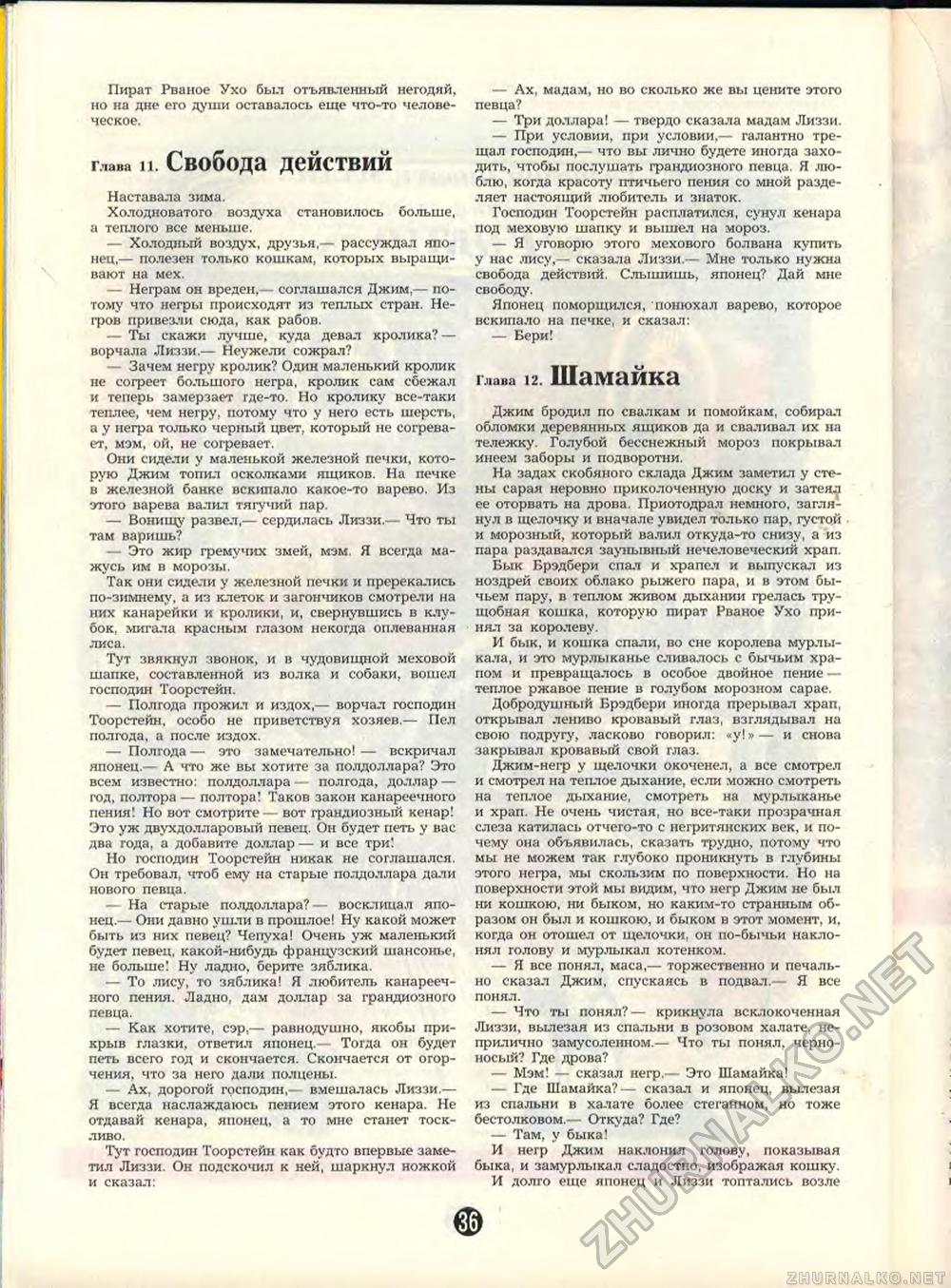
Пират Рваное Ухо был отъявленный негодяй, но на дне его души оставалось еще что-то человеческое. Глава 11. Свобода действий Наставала зима. Холодноватого воздуха становилось больше, а теплого все меньше. — Холодный воздух, друзья,— рассуждал японец,— полезен только кошкам, которых выращивают на мех. — Нефам он вреден,— соглашался Джим,— потому что негры происходят из теплых стран. Негров привезли сюда, как рабов. — Ты скажи лучше, куда девал кролика? — ворчала Лиззи.— Неужели сожрал? Зачем негру кролик? Один маленький кролик не согреет большого негра, кролик сам сбежал и теперь замерзает где-то. Но кролику все-таки теплее, чем негру, потому что у него есть шерсть, а у иегра только черный цвет, который не согревает, мэм, ой, не согревает. Они сидели у маленькой железной печки, которую Джим топил осколками ящиков. На печке в железной банке вскипало какое-то варево. Из этого варева валил тягучий пар. — Вонищу развел,— сердилась Лиззи.— Что ты там варишь? Это жир гремучих змей, мэм. Я всегда мажусь им в морозы. Так они сидели у железной печки и пререкались по-зимнему, а из клеток и загоичиков смотрели на них канарейки и кролики, и, свернувшись в клубок. мигала красным глазом некогда оплеванная лиса. Тут звякнул звонок, и в чудовищной меховой шапке, составленной из волка и собаки, вошел господин Тоорстейн. — Полгода прожил и издох,— ворчал господин Тоорстейн, особо не приветствуя хозяев.— Пел полгода, а после издох. — Полгода — это замечательно! — вскричал японец.— А что же вы хотите за полдоллара? Это всем известно: полдоллара полгода, доллар — год, полтора — полтора! Таков закон канареечного пения! Но вот смотрите вот грандиозный кенар! Это уж двухдолларовый певец. Он будет петь у вас два года, а добавите доллар — и все три! Но господин Тоорстейн никак не соглашался. Он требовал, чтоб ему на старые полдоллара дали нового певца. — На старые полдоллара?— восклицал японец.— Они давно ушли в прошлое! Ну какой может быть из них певец? Чепуха! Очень уж маленький будет певец, какой-нибудь французский шансонье, не больше! Ну ладно, берите зяблика. — То лису, то зяблика! Я любитель канареечного пения. Ладно, дам доллар за грандиозного певца. — Как хотите, сэр,— равнодушно, якобы прикрыв глазки, ответил японец. Тогда он будет петь всего год и скончается. Скотюется от огорчения, что за него дали полцены. — Ах, дорогой господин,— вмешалась Лиззи.— Я всегда наслаждаюсь пением этого кенара. Не отдавай кенара, японец, а то мне станет тоскливо. Тут господин Тоорстейн как будто впервые заметил Лиззи. Он подскочил к ней, шаркнул ножкой и сказал: — Ах, мадам, но во сколько же вы цените этого певца? — Три доллара! — твердо сказала мадам Лиззи. — При условии, при условии,— галантно трещал господин,— что вы лично будете иногда заходить, чтобы послушать грандиозного певца. Я люблю, когда красоту птичьего пения со мной разделяет настоящий любитель и знаток. Господин Тоорстейн расплатился, сунул кенара под меховую шапку и вышел на мороз. — Я уговорю этого мехового болвана купить у нас лису,— сказала Лиззи — Мне только нужна свобода действий. Слышишь, японец? Дай мне свободу. Японец поморщился, понюхал варево, которое вскипало на печке, и сказал: — Бери! I лава 12. Шамайка Джим бродил по свалкам и помойкам, собирал обломки деревянных ящиков да и сваливал их на тележку. Голубой бесснежный мороз покрывал инеем заборы и подворотни. На задах скобяного склада Джим заметил у стены сарая неровно приколоченную доску и затеял ее оторвать на дрова. Приотодрал немного, заглянул в щелочку и вначале увидел только пар, густой и морозный, который валил откуда-то снизу, а из пара раздавался заунывный нечеловеческий храп. Бык Брэдбери спал и храпел и выпускал из ноздрей своих облако рыжего пара, и в этом бычьем пару, в теплом живом дыхании грелась трущобная кошка, которую пират Гваное Ухо принял за королеву. И бык, и кошка спали, во сне королева мурлыкала, и это мурлыканье сливалось с бычьим храпом и превращалось в особое двойное пение — теплое ржавое пение в голубом морозном сарае. Добродушный Брэдбери иногда прерывал храп, открывал лениво кровавый глаз, взглядывал на свою подругу, ласково говорил: «у!»— и снова закрывал кровавый свой глаз. Джим-негр у щелочки окоченел, а все смотрел и смотрел на теплое дыхание, если можно смотреть на теплое дыхание, смотреть на мурлыканье и храп. Не очень чистая, но все-таки прозрачная слеза катилась отчего-то с негритянских век, и почему она объявилась, сказать трудно, потому что мы не можем так глубоко проникнуть в глубины этого нефа, мы скользим по поверхности. Но на поверхности этой мы видим, что негр Джим не был ни кошкою, ни быком, но каким-то странным образом он был и кошкою, и быком в этот момент, и. когда он отошел от щелочки, он по-бычьи наклонял голову и мурлыкал котенком. — Я все понял, маса,— торжественно и печально сказал Джим, спускаясь в подвал.- Я все понял. — Что ты понял?— крикнула всклокоченная Лиззи, вылезая из спальни в розовом халате, неприлично замусоленном.— Что ты понял, черио-носый? Где дрова? — Мэм! — сказал негр.— Это Шамайка! — Где Шамайка?— сказал и японец, вылезая из спальни в халате более стеганном, но тоже бестолковом.— Откуда? Где? — Там, у быка! И негр Джим наклонил голову, показывая быка, и замурлыкал сладостно, изображая кошку. И долго еще японец и Лиззи топтались возле © |








