Пионер 1989-05, страница 12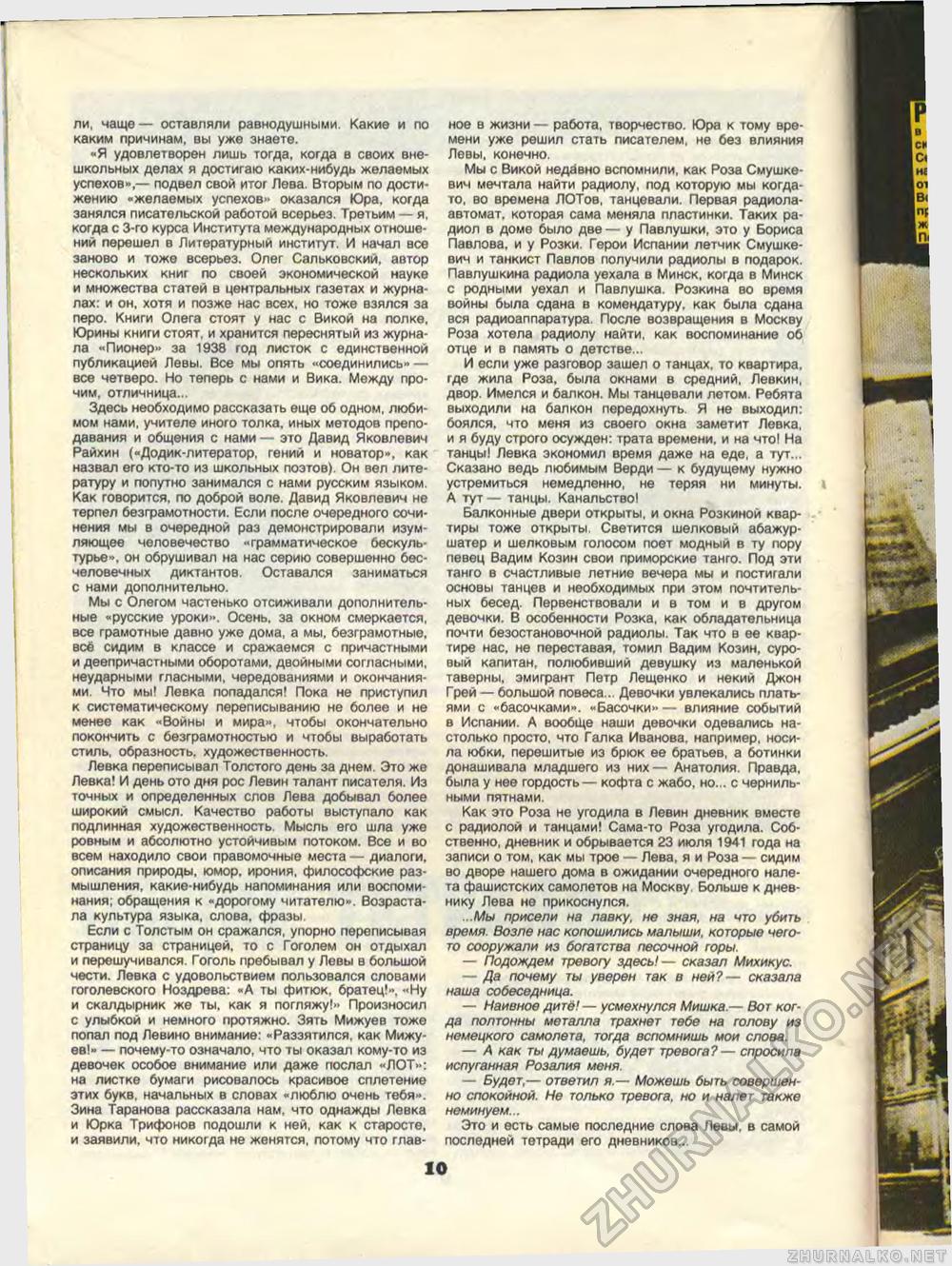
ли, чаще— оставляли равнодушными. Какие и по каким причинам, вы уже знаете. «Я удовлетворен лишь тогда, когда в своих внешкольных делах я достигаю каких-нибудь желаемых успехов»,— подвел свой итог Лева. Вторым по достижению «желаемых успехов» оказался Юра, когда занялся писательской работой всерьез. Третьим — я. когда с 3-го курса Института международных отношений перешел в Литературный институт. И начал все заново и тоже всерьез. Олег Сальковский, автор нескольких книг по своей экономической науке и множества статей в центральных газетах и журналах: и он, хотя и позже нас всех, но тоже взялся за перо. Книги Олега стоят у нас с Викой на полке. Юрины книги стоят, и хранится переснятый из журнала «Пионер» за 1938 год листок с единственной публикацией Левы. Все мы опять «соединились» — все четверо. Но теперь с нами и Вика. Между прочим, отличница... Здесь необходимо рассказать еще об одном, любимом нами, учителе иного толка, иных методов преподавания и общения с нами — это Давид Яковлевич Райхин («Додик-литератор. гений и новатор», как назвал его кто-то из школьных поэтов). Он вел литературу и попутно занимался с нами русским языком. Как говорится, по доброй воле. Давид Яковлевич не терпел безграмотности. Если после очередного сочинения мы в очередной раз демонстрировали изумляющее человечество «грамматическое бескультурье», он обрушивал на нас серию совершенно бесчеловечных диктантов. Оставался заниматься с нами дополнительно. Мы с Олегом частенько отсиживали дополнительные «русские уроки». Осень, за окном смеркается, все грамотные давно уже дома, а мы, безграмотные, всё сидим в классе и сражаемся с причастными и деепричастными оборотами, двойными согласными, неударными гласными, чередованиями и окончаниями. Что мы! Левка попадался! Пока не приступил к систематическому переписыванию не более и не менее как «Войны и мира», чтобы окончательно покончить с безграмотностью и чтобы выработать стиль, образность, художественность. Левка переписывал Толстого день за днем. Это же Левка! И день ото дня рос Левин талант писателя. Из точных и определенных слов Лева добывал более широкий смысл. Качество работы выступало как подлинная художественность. Мысль его шла уже ровным и абсолютно устойчивым потоком. Все и во всем находило свои правомочные места — диалоги, описания природы, юмор, ирония, философские размышления, какие-нибудь напоминания или воспоминания; обращения к «дорогому читателю». Возрастала культура языка, слова, фразы. Если с Толстым он сражался, упорно переписывая страницу за страницей, то с Гоголем он отдыхал и перешучивался. Гоголь пребывал у Левы в большой чести. Левка с удовольствием пользовался словами гоголевского Ноздрева: «А ты фитюк, братец!», «Ну и скалдырник же ты, как я погляжу!» Произносил с улыбкой и немного протяжно. Зять Мижуев тоже попал под Левино внимание: «Раззятился, как Мижуев!» — почему-то означало, что ты оказал кому-то из девочек особое внимание или даже послал «ЛОТ»: на листке бумаги рисовалось красивое сплетение этих букв, начальных в словах «люблю очень тебя». Зина Таранова рассказала нам, что однажды Левка и Юрка Трифонов подошли к ней, как к старосте, и заявили, что никогда не женятся, потому что глав ное в жизни — работа, творчество. Юра к тому времени уже решил стать писателем, не без влияния Левы, конечно. Мы с Викой недавно вспомнили, как Роза Смушке-вич мечтала найти радиолу, под которую мы когда-то, во времена ЛОТов, танцевали. Первая радиола-автомат, которая сама меняла ппастинки. Таких радиол в доме было две — у Павлушки, это у Бориса Павлова, и у Розки. Герои Испании летчик Смушке-вич и танкист Павлов получили радиолы в подарок. Павлушкина радиола уехала в Минск, когда в Минск с родными уехал и Павлушка. Розкина во время войны была сдана в комендатуру, как была сдана вся радиоаппаратура. После возвращения в Москву Роза хотела радиолу найти, как воспоминание об отце и в память о детстве... И если уже разговор зашел о танцах, то квартира, где жила Роза, была окнами в средний, Левкин, двор. Имелся и балкон. Мы танцевали летом. Ребята выходили на балкон передохнуть. Я не выходил: боялся, что меня из своего окна заметит Левка, и я буду строго осужден: трата времени, и на что! На танцы! Левка экономил время даже на еде, а тут... Сказано ведь любимым Верди — к будущему нужно устремиться немедленно, не теряя ни минуты. А тут — танцы. Канальство! Балконные двери открыты, и окна Розкиной квартиры тоже открыты. Светится шелковый абажур-шатер и шелковым голосом поет модный в ту пору певец Вадим Козин свои приморские танго. Под эти танго в счастливые летние вечера мы и постигали основы танцев и необходимых при этом почтительных бесед. Первенствовали и в том и в другом девочки. В особенности Розка, как обладательница почти безостановочной радиолы. Так что в ее квартире нас, не переставая, томил Вадим Козин, суровый капитан, полюбивший девушку из маленькой таверны, эмигрант Петр Лещенко и некий Джон Грей — большой повеса... Девочки увлекались платьями с «басочками». «Басочки» — влияние событий в Испании. А вообще наши девочки одевались настолько просто, что Галка Иванова, например, носила юбки, перешитые из брюк ее братьев, а ботинки донашивала младшего из них— Анатолия. Правда, была у нее гордость — кофта с жабо. но... с чернильными пятнами. Как это Роза не угодила в Левин дневник вместе с радиолой и танцами! Сама-то Роза угодила. Собственно, дневник и обрывается 23 июля 1941 года на записи о том, как мы трое — Лева, я и Роза — сидим во дворе нашего дома в ожидании очередного налета фашистских самолетов на Москву, Больше к дневнику Лева не прикоснулся. ...Мы присели на лавку, не зная, на что убить время. Возле нас копошились малыши, которые чего-то сооружали из богатства песочной горы. — Подождем тревогу здесь!— сказал Михикус. — Да почему ты уверен так в ней?— сказала наша собеседница. — Наивное дитё! — усмехнулся Мишка.— Вот когда полтонны металла трахнет тебе на голову из немецкого самолета, тогда вспомнишь мои слова. — А как ты думаешь, будет тревога?— спросила испуганная Розалия меня. — Будет,— ответил я.— Можешь быть совершенно спокойной. Не только тревога, но и налет также неминуем... Это и есть самые последние слова Левы, в самой последней тетради его дневников... 10 |








