Вокруг света 1968-09, страница 8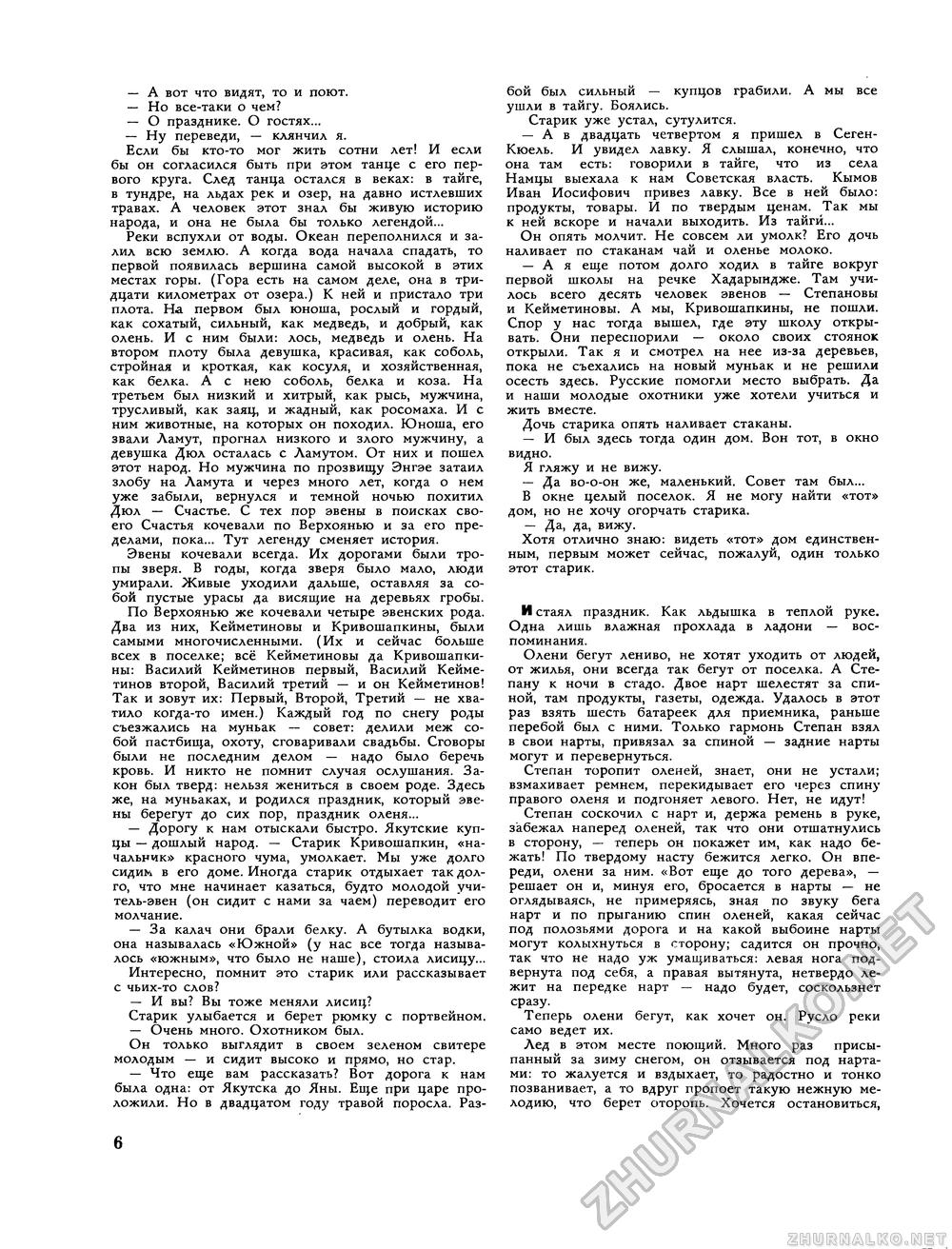
— А вот что видят, то и поют. — Но все-таки о чем? — О празднике. О гостях... — Ну переведи, — клянчил я. Если бы кто-то мог жить сотни лет! И если бы он согласился быть при этом танце с его первого круга. След танца остался в веках: в тайге, в тундре, на льдах рек и озер, на давно истлевших травах. А человек этот знал бы живую историю народа, и она не была бы только легендой... Реки вспухли от воды. Океан переполнился и залил всю землю. А когда вода начала спадать, то первой появилась вершина самой высокой в этих местах горы. (Гора есть на самом деле, она в тридцати километрах от озера.) К ней и пристало три плота. На первом был юноша, рослый и гордый, как сохатый, сильный, как медведь, и добрый, как олень. И с ним были: лось, медведь и олень. На втором плоту была девушка, красивая, как соболь, стройная и кроткая, как косуля, и хозяйственная, как белка. А с нею соболь, белка и коза. На третьем был низкий и хитрый, как рысь, мужчина, трусливый, как заяц, и жадный, как росомаха. И с ним животные, на которых он походил. Юноша, его звали Ламут, прогнал низкого и злого мужчину, а девушка Дюл осталась с Ламутом. От них и пошел этот народ. Но мужчина по прозвищу Энгэе затаил злобу на Ламута и через много лет, когда о нем уже забыли, вернулся и темной ночью похитил Дюл — Счастье. С тех пор эвены в поисках своего Счастья кочевали по Верхоянью и за его пределами, пока... Тут легенду сменяет история. Эвены кочевали всегда. Их дорогами были тропы зверя. В годы, когда зверя было мало, люди умирали. Живые уходили дальше, оставляя за собой пустые урасы да висящие на деревьях гробы. По Верхоянью же кочевали четыре эвенских рода. Два из них, Кейметиновы и Кривошапкины, были самыми многочисленными. (Их и сейчас больше всех в поселке; всё Кейметиновы да Кривошапкины: Василий Кейметинов первый, Василий Кейме-тинов второй, Василий третий — и он Кейметинов! Так и зовут их: Первый, Второй, Третий — не хватило когда-то имен.) Каждый год по снегу роды съезжались на муньак — совет: делили меж собой пастбища, охоту, сговаривали свадьбы. Сговоры были не последним делом — надо было беречь кровь. И никто не помнит случая ослушания. Закон был тверд: нельзя жениться в своем роде. Здесь же, на муньаках, и родился праздник, который эвены берегут до сих пор, праздник оленя... — Дорогу к нам отыскали быстро. Якутские купцы — дошлый народ. — Старик Кривошапкин, «начальник» красного чума, умолкает. Мы уже долго сидим в его доме. Иногда старик отдыхает так долго, что мне начинает казаться, будто молодой учи-тель-эвен (он сидит с нами за чаем) переводит его молчание. — За калач они брали белку. А бутылка водки, она называлась «Южной» (у нас все тогда называлось «южным», что было не наше), стоила лисицу... Интересно, помнит это старик или рассказывает с чьих-то слов? — И вы? Вы тоже меняли лисиц? Старик улыбается и берет рюмку с портвейном. — Очень много. Охотником был. Он только выглядит в своем зеленом свитере молодым — и сидит высоко и прямо, но стар. — Что еще вам рассказать? Вот дорога к нам была одна: от Якутска до Яны. Еще при царе проложили. Но в двадцатом году травой поросла. Раз бой был сильный — купцов грабили. А мы все ушли в тайгу. Боялись. Старик уже устал, сутулится. — А в двадцать четвертом я пришел в Сеген-Кюель. И увидел лавку. Я слышал, конечно, что она там есть: говорили в тайге, что из села Намцы выехала к нам Советская власть. Кымов Иван Иосифович привез лавку. Все в ней было: продукты, товары. И по твердым ценам. Так мы к ней вскоре и начали выходить. Из тайги... Он опять молчит. Не совсем ли умолк? Его дочь наливает по стаканам чай и оленье молоко. — А я еще потом долго ходил в тайге вокруг первой школы на речке Хадарындже. Там училось всего десять человек эвенов — Степановы и Кейметиновы. А мы, Кривошапкины, не пошли. Спор у нас тогда вышел, где эту школу открывать. Они переспорили — около своих стоянок открыли. Так я и смотрел на нее из-за деревьев, пока не съехались на новый муньак и не решили осесть здесь. Русские помогли место выбрать. Да и наши молодые охотники уже хотели учиться и жить вместе. Дочь старика опять наливает стаканы. — И был здесь тогда один дом. Вон тот, в окно видно. Я гляжу и не вижу. — Да во-о-он же, маленький. Совет там был... В окне целый поселок. Я не могу найти «тот» дом, но не хочу огорчать старика. — Да, да, вижу. Хотя отлично знаю: видеть «тот» дом единственным, первым может сейчас, пожалуй, один только этот старик. И стаял праздник. Как льдышка в теплой руке. Одна лишь влажная прохлада в ладони — воспоминания. Олени бегут лениво, не хотят уходить от людей, от жилья, они всегда так бегут от поселка. А Степану к ночи в стадо. Двое нарт шелестят за спиной, там продукты, газеты, одежда. Удалось в этот раз взять шесть батареек для приемника, раньше перебой был с ними. Только гармонь Степан взял в свои нарты, привязал за спиной — задние нарты могут и перевернуться. Степан торопит оленей, знает, они не устали; взмахивает ремнем, перекидывает его через спину правого оленя и подгоняет левого. Нет, не идут! Степан соскочил с нарт и, держа ремень в руке, забежал наперед оленей, так что они отшатнулись в сторону, — теперь он покажет им, как надо бежать! По твердому насту бежится легко. Он впереди, олени за ним. «Вот еще до того дерева», — решает он и, минуя его, бросается в нарты — не оглядываясь, не примеряясь, зная по звуку бега нарт и по прыганию спин оленей, какая сейчас под полозьями дорога и на какой выбоине нарты могут колыхнуться в сторону; садится он прочно, так что не надо уж умащиваться: левая нога подвернута под себя, а правая вытянута, нетвердо лежит на передке нарт — надо будет, соскользнет сразу. Теперь олени бегут, как хочет он. Русло реки само ведет их. Лед в этом месте поющий. Много раз присыпанный за зиму снегом, он отзывается под нартами: то жалуется и вздыхает, то радостно и тонко позванивает, а то вдруг пропоет такую нежную мелодию, что берет оторопь. Хочется остановиться, б |








