Вокруг света 1969-02, страница 47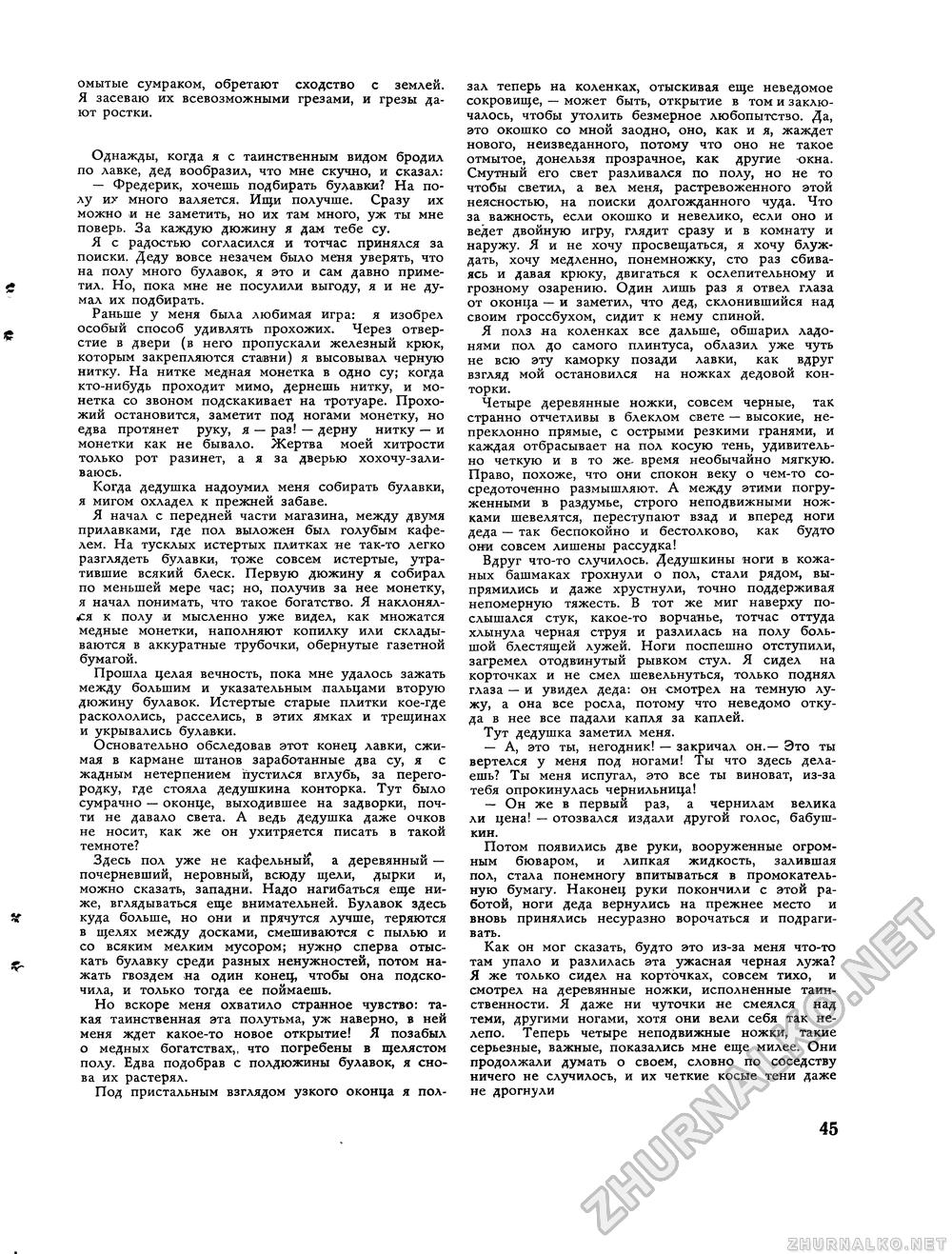
омытые сумраком, обретают сходство с землей. Я засеваю их всевозможными грезами, и грезы дают ростки. Однажды, когда я с таинственным видом бродил по лавке, дед вообразил, что мне скучно, и сказал: — Фредерик, хочешь подбирать булавки? На полу их много валяется. Ищи получше. Сразу их можно и не заметить, но их там много, уж ты мне поверь. За каждую дюжину я дам тебе су. Я с радостью согласился и тотчас принялся за поиски. Деду вовсе незачем было меня уверять, что на полу много булаовок, я это и сам давно приметил. Но, пока мне не посулили выгоду, я и не думал их подбирать. Раньше у меня была любимая игра: я изобрел особый способ удивлять прохожих. Через отверстие в двери (в него пропускали железный крюк, которым закрепляются ставни) я высовывал черную нитку. На нитке медная монетка в одно су; когда кто-нибудь проходит мимо, дернешь нитку, и монетка со звоном подскакивает на тротуаре. Прохожий остановится, заметит под ногами монетку, но едва протянет руку, я — раз! — дерну нитку — и монетки как не бывало. Жертва моей хитрости только рот разинет, а я за дверью хохочу-заливаюсь. Когда дедушка надоумил меня собирать булавки, я мигом охладел к прежней забаве. Я начал с передней части магазина, между двумя прилавками, где пол выложен был голубым кафелем. На тусклых истертых плитках не так-то легко разглядеть булавки, тоже совсем истертые, утратившие всякий блеск. Первую дюжину я собирал по меньшей мере час; но, получив за нее монетку, я начал понимать, что такое богатство. Я наклонялся к полу и мысленно уже видел, как множатся медные монетки, наполняют копилку или складываются в аккуратные трубочки, обернутые газетной бумагой. Прошла целая вечность, пока мне удалось зажать между большим и указательным пальцами вторую дюжину булавок. Истертые старые плитки кое-где раскололись, расселись, в этих ямках и трещинах и укрывались булавки. Основательно обследовав этот конец лавки, сжимая в кармане штанов заработанные два су, я с жадным нетерпением пустился вглубь, за перегородку, где стояла дедушкина конторка. Тут было сумрачно — оконце, выходившее на задворки, почти не давало света. А ведь дедушка даже очков не носит, как же он ухитряется писать в такой темноте? Здесь пол уже не кафельный, а деревянный — почерневший, неровный, всюду щели, дырки и, можно сказать, западни. Надо нагибаться еще ниже, вглядываться еще внимательней. Булавок здесь куда больше, но они и прячутся лучше, теряются в щелях между досками, смешиваются с пылью и со всяким мелким мусором; нужнр сперва отыскать булавку среди разных ненужностей, потом нажать гвоздем на один конец, чтобы она подскочила, и только тогда ее поймаешь. Но вскоре меня охватило странное чувство: такая таинственная эта полутьма, уж наверно, в ней меня ждет какое-то новое открытие! Я позабыл о медных богатствах,, что погребены в щелястом полу. Едва подобрав с полдюжины булавок, я снова их растерял. Под пристальным взглядом узкого оконца я пол зал теперь на коленках, отыскивая еще неведомое сокровище, — может быть, открытие в том и заключалось, чтобы утолить безмерное любопытство. Да, это окошко со мной заодно, оно, как и я, жаждет нового, неизведанного, потому что оно не такое отмытое, донельзя прозрачное, как другие -окна. Смутный его свет разливался по полу, но не то чтобы светил, а вел меня, растревоженного этой неясностью, на поиски долгожданного чуда. Что за важность, если окошко и невелико, если оно и ведет двойную игру, глядит сразу и в комнату и наружу. Я и не хочу просвещаться, я хочу блуждать, хочу медленно, понемножку, сто раз сбиваясь и давая крюку, двигаться к ослепительному и грозному озарению. Один лишь раз я отвел глаза от оконца — и заметил, что дед, склонившийся над своим гроссбухом, сидит к нему спиной. Я полз на коленках все дальше, обшарил ладонями пол до самого плинтуса, облазил уже чуть не всю эту каморку позади лавки, как вдруг взгляд мой остановился на ножках дедовой конторки. Четыре деревянные ножки, совсем черные, так странно отчетливы в блеклом свете — высокие, непреклонно прямые, с острыми резкими гранями, и каждая отбрасывает на пол косую тень, удивительно четкую и в то же- время необычайно мягкую. Право, похоже, что они спокон веку о чем-то сосредоточенно размышляют. А между этими погруженными в раздумье, строго неподвижными ножками шевелятся, переступают взад и вперед ноги деда — так беспокойно и бестолково, как будто они совсем лишены рассудка! Вдруг что-то случилось. Дедушкины ноги в кожаных башмаках грохнули о пол, стали рядом, выпрямились и даже хрустнули, точно поддерживая непомерную тяжесть. В тот же миг наверху послышался стук, какое-то ворчанье, тотчас оттуда хлынула черная струя и разлилась на полу большой блестящей лужей. Ноги поспешно отступили, загремел отодвинутый рывком стул. Я сидел на корточках и не смел шевельнуться, только поднял глаза — и увидел деда: он смотрел на темную лужу, а она все росла, потому что неведомо откуда в нее все падали капля за каплей. Тут дедушка заметил меня. — А, это ты, негодник! — закричал он.— Это ты вертелся у меня под ногами! Ты что здесь делаешь? Ты меня испугал, это все ты виноват, из-за тебя опрокинулась чернильница! — Он же в первый раз, а чернилам велика ли цена! — отозвался издали другой голос, бабушкин. Потом появились две руки, вооруженные огромным бюваром, и липкая жидкость, залившая пол, стала понемногу впитываться в промокательную бумагу. Наконец руки покончили с этой работой, ноги деда вернулись на прежнее место и вновь принялись несуразно ворочаться и подрагивать. Как он мог сказать, будто это из-за меня что-то там упало и разлилась эта ужасная черная лужа? Я же только сидел на корточках, совсем тихо, и смотрел на деревянные ножки, исполненные таинственности. Я даже ни чуточки не смеялся над теми, другими ногами, хотя они вели себя так нелепо. Теперь четыре неподвижные ножки, такие серьезные, важные, показались мне еще милее. Они продолжали думать о своем, словно по соседству ничего не случилось, и их четкие косые тени даже не дрогнули 45 |








