Костёр 1967-10, страница 18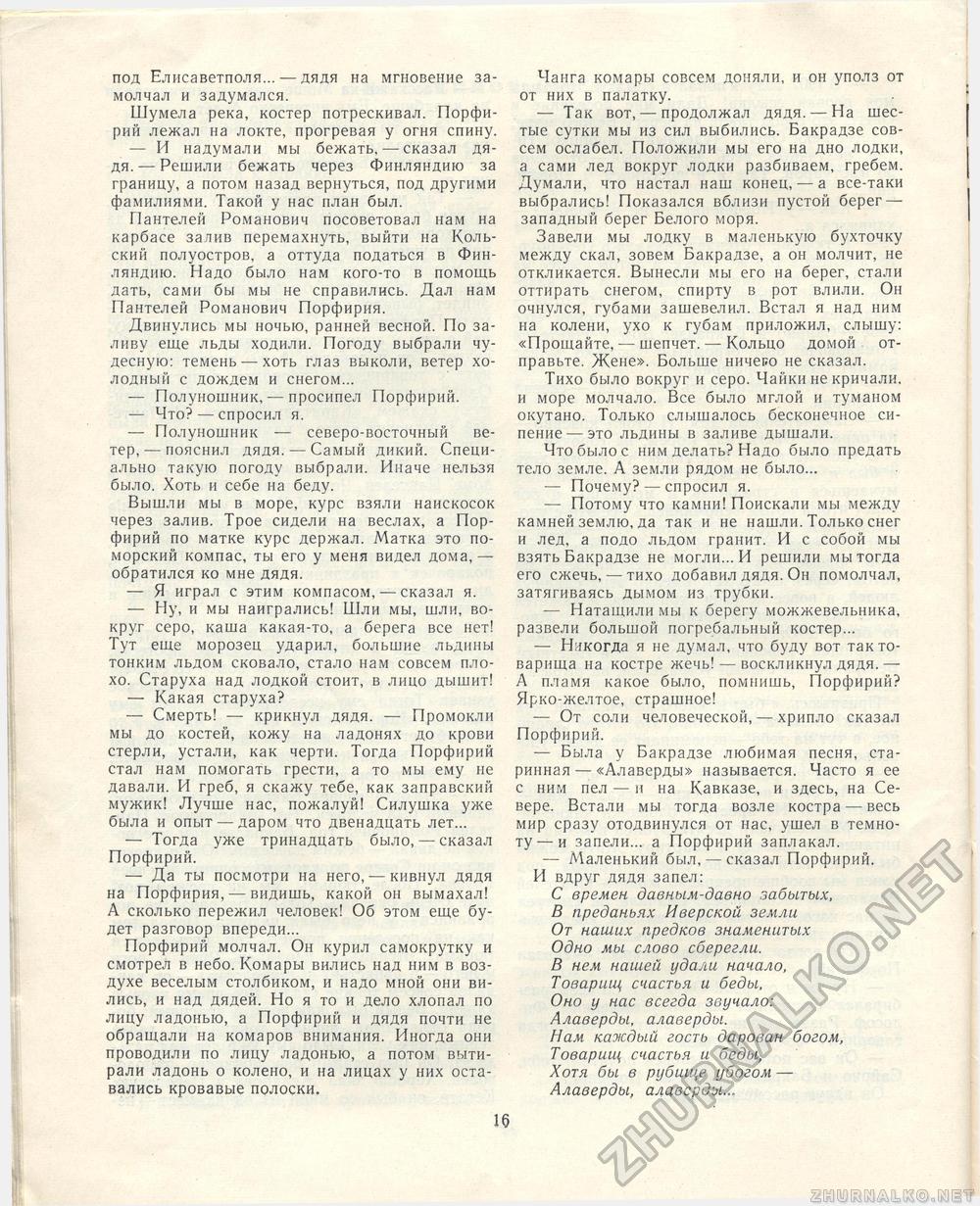
под Елисаветполя... — дядя на мгновение замолчал и задумался. Шумела река, костер потрескивал. Порфирий лежал на локте, прогревая у огня спину. — И надумали мы бежать, — сказал дядя.— Решили бежать через Финляндию за границу, а потом назад вернуться, под другими фамилиями. Такой у нас план был. Пантелей Романович посоветовал нам на карбасе залив перемахнуть, выйти на Кольский полуостров, а оттуда податься в Финляндию. Надо было нам кого-то в помощь дать, сами бы мы не справились. Дал нам Пантелей Романович Порфирия. Двинулись мы ночью, ранней весной. По заливу еще льды ходили. Погоду выбрали чудесную: темень — хоть глаз выколи, ветер холодный с дождем и снегом... — Полуношник, — просипел Порфирий. — Что? — спросил я. — Полуношник — северо-восточный ветер,— пояснил дядя. — Самый дикий. Специально такую погоду выбрали. Иначе нельзя было. Хоть и себе на беду. Вышли мы в море, курс взяли наискосок через залив. Трое сидели на веслах, а Порфирий по матке курс держал. Матка это поморский компас, ты его у меня видел дома,— обратился ко мне дядя. — Я играл с этим компасом, — сказал я. — Ну, и мы наигрались! Шли мы, шли, вокруг серо, каша какая-то, а берега все нет! Тут еще морозец ударил, большие льдины тонким льдом сковало, стало нам совсем плохо. Старуха над лодкой стоит, в лицо дышит! — Какая старуха? — Смерть! — крикнул дядя. — Промокли мы до костей, кожу на ладонях до крови стерли, устали, как черти. Тогда Порфирий стал нам помогать грести, а то мы ему не давали. И греб, я скажу тебе, как заправский мужик! Лучше нас, пожалуй! Силушка уже была и опыт — даром что двенадцать лет... — Тогда уже тринадцать было, — сказал Порфирий. — Да ты посмотри на него, — кивнул дядя на Порфирия, — видишь, какой он вымахал! А сколько пережил человек! Об этом еще будет разговор впереди... Порфирий молчал. Он курил самокрутку и смотрел в небо. Комары вились над ним в воздухе веселым столбиком, и надо мной они вились, и над дядей. Но я то и дело хлопал по лицу ладонью, а Порфирий и дядя почти не обращали на комаров внимания. Иногда они проводили по лицу ладонью, а потом вытирали ладонь о колено, и на лицах у них оставались кровавые полоски. 16 Чанга комары совсем доняли, и он уполз от от них в палатку. — Так вот, — продолжал дядя. — На шестые сутки мы из сил выбились. Бакрадзе совсем ослабел. Положили мы его на дно лодки, а сами лед вокруг лодки разбиваем, гребем. Думали, что настал наш конец, — а все-таки выбрались! Показался вблизи пустой берег — западный берег Белого моря. Завели мы лодку в маленькую бухточку между скал, зовем Бакрадзе, а он молчит, не откликается. Вынесли мы его на берег, стали оттирать снегом, спирту в рот влили. Он очнулся, губами зашевелил. Встал я над ним на колени, ухо к губам приложил, слышу: «Прощайте, — шепчет. — Кольцо домой отправьте. Жене». Больше ничего не сказал. Тихо было вокруг и серо. Чайки не кричали, и море молчало. Все было мглой и туманом окутано. Только слышалось бесконечное сипение— это льдины в заливе дышали. Что было с ним делать? Надо было предать тело земле. А земли рядом не было... — Почему? — спросил я. — Потому что камни! Поискали мы между камней землю, да так и не нашли. Только снег и лед, а подо льдом гранит. И с собой мы взять Бакрадзе не могли... И решили мы тогда его сжечь, — тихо добавил дядя. Он помолчал, затягиваясь дымом из трубки. — Натащили мы к берегу можжевельника, развели большой погребальный костер... — Никогда я не думал, что буду вот так товарища на костре жечь! — воскликнул дядя.— А пламя какое было, помнишь, Порфирий? Ярко-желтое, страшное! — От соли человеческой, — хрипло сказал Порфирий. — Была у Бакрадзе любимая песня, старинная— «Алаверды» называется. Часто я ее с ним пел — и на Кавказе, и здесь, на Севере. Встали мы тогда возле костра — весь мир сразу отодвинулся от нас, ушел в темноту— и запели... а Порфирий заплакал. — Маленький был, — сказал Порфирий. И вдруг дядя запел: С времен давным-давно забытых, В преданьях Иверской земли От наших предков знаменитых Одно мы слово сберегли. В нем нашей удали начало, Товарищ счастья и беды, Оно у нас всегда звучало: Алаверды, алаверды. Нам каждый гость дарован богом, Товарищ счастья и беды, Хотя бы в рубище убогом — Алаверды, алаверды... |








