Костёр 1967-10, страница 23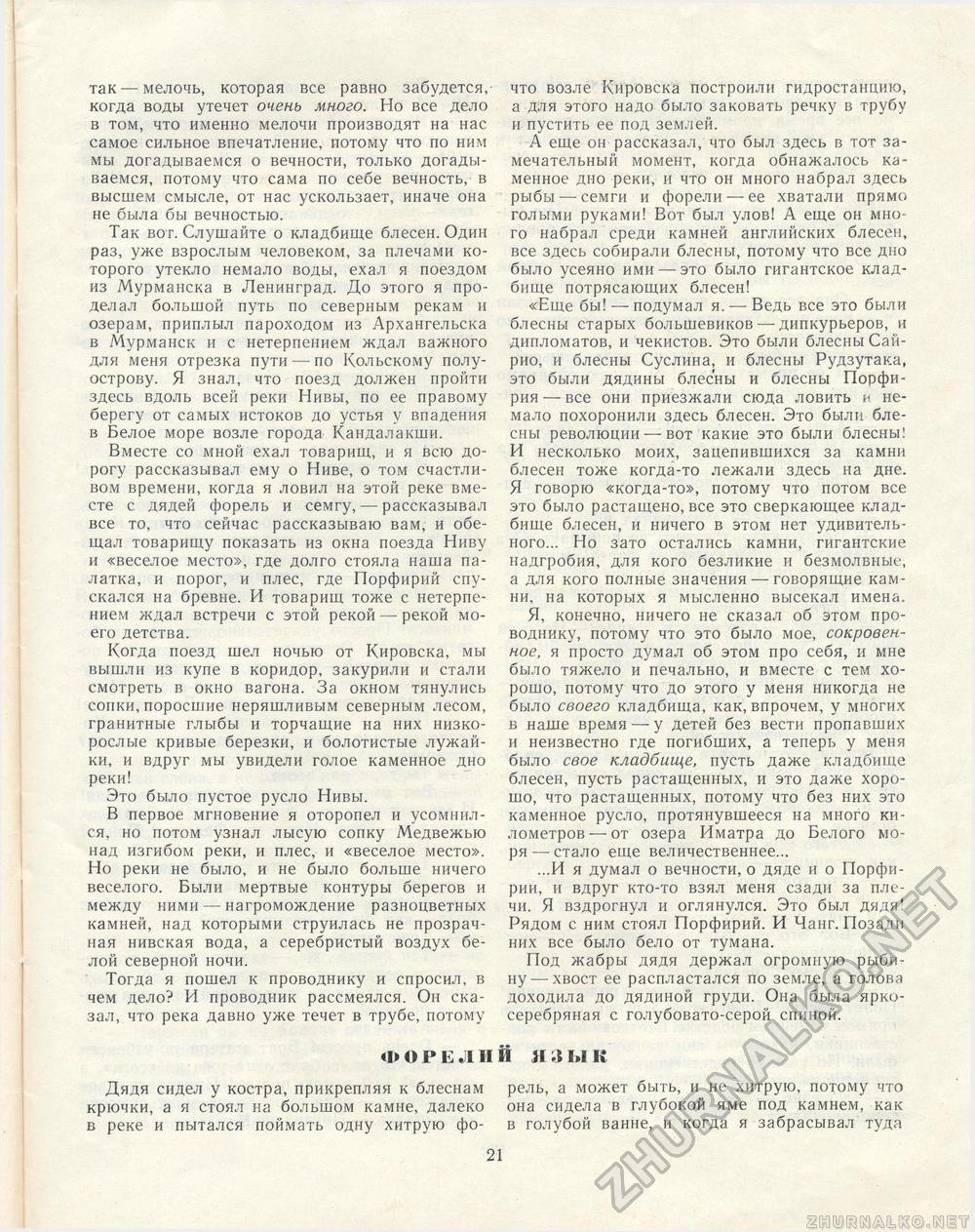
так — мелочь, которая все равно забудется,-когда воды утечет очень много. Но все дело в том, что именно мелочи производят на нас самое сильное впечатление, потому что по ним мы догадываемся о вечности, только догадываемся, потому что сама по себе вечность, в высшем смысле, от нас ускользает, иначе она не была бы вечностью. Так вот. Слушайте о кладбище блесен. Один раз, уже взрослым человеком, за плечами которого утекло немало воды, ехал я поездом из Мурманска в Ленинград. До этого я проделал большой путь по северным рекам и озерам, приплыл пароходом из Архангельска в Мурманск и с нетерпением ждал важного для меня отрезка пути — по Кольскому полуострову. Я знал, что поезд должен пройти здесь вдоль всей реки Нивы, по ее правому берегу от самых истоков до устья у впадения в Белое море возле города Кандалакши. Вместе со мной ехал товарищ, и я всю дорогу рассказывал ему о Ниве, о том счастливом времени, когда я ловил на этой реке вместе с дядей форель и семгу, — рассказывал все то, что сейчас рассказываю вам, и обещал товарищу показать из окна поезда Ниву и «веселое место», где долго стояла наша палатка, и порог, и плес, где Порфирий спускался на бревне. И товарищ тоже с нетерпением ждал встречи с этой рекой — рекой моего детства. Когда поезд шел ночью от Кировска, мы вышли из купе в коридор, закурили и стали смотреть в окно вагона. За окном тянулись сопки, поросшие неряшливым северным лесом, гранитные глыбы и торчащие на них низкорослые кривые березки, и болотистые лужайки, и вдруг мы увидели голое каменное дно реки! Это было пустое русло Нивы. В первое мгновение я оторопел и усомнился, но потом узнал лысую сопку Медвежью над изгибом реки, и плес, и «веселое место». Но реки не было, и не было больше ничего веселого. Были мертвые контуры берегов и между ними — нагромождение разноцветных камней, над которыми струилась не прозрачная нивская вода, а серебристый воздух белой северной ночи. Тогда я пошел к проводнику и спросил, в чем дело? И проводник рассмеялся. Он сказал, что река давно уже течет в трубе, потому <1> ОРЕЛ И Дядя сидел у костра, прикрепляя к блеснам крючки, а я стоял на большом камне, далеко в реке и пытался поймать одну хитрую фо- что возле Кировска построили гидростанцию, а для этого надо было заковать речку в трубу и пустить ее под землей. А еще он рассказал, что был здесь в тот замечательный момент, когда обнажалось каменное дно реки, и что он много набрал здесь рыбы — семги и форели — ее хватали прямо голыми руками! Вот был улов! А еще он много набрал среди камней английских блесен, все здесь собирали блесны, потому что все дно было усеяно ими — это было гигантское кладбище потрясающих блесен! «Еще бы! — подумал я. — Ведь все это были блесны старых большевиков — дипкурьеров, и дипломатов, и чекистов. Это были блесны Сайрио, и блесны Суслина, и блесны Рудзутака, это были дядины блесны и блесны Порфирия — все они приезжали сюда ловить и немало похоронили здесь блесен. Это были блесны революции — вот какие это были блесны! И несколько моих, зацепившихся за камни блесен тоже когда-то лежали здесь на дне. Я говорю «когда-то», потому что потом все это было растащено, все это сверкающее кладбище блесен, и ничего в этом нет удивительного... Но зато остались камни, гигантские надгробия, для кого безликие и безмолвные, а для кого полные значения — говорящие камни, на которых я мысленно высекал имена. Я, конечно, ничего не сказал об этом проводнику, потому что это было мое, сокровенное, я просто думал об этом про себя, и мне было тяжело и печально, и вместе с тем хорошо, потому что до этого у меня никогда не было своего кладбища, как, впрочем, у многих в наше время — у детей без вести пропавших и неизвестно где погибших, а теперь у меня было свое кладбище, пусть даже кладбище блесен, пусть растащенных, и это даже хорошо, что растащенных, потому что без них это каменное русло, протянувшееся на много километров— от озера Иматра до Белого моря— стало еще величественнее... ...И я думал о вечности, о дяде и о Порфи-рии, и вдруг кто-то взял меня сзади за плечи. Я вздрогнул и оглянулся. Это был дядя! Рядом с ним стоял Порфирий. И Чанг. Позади них все было бело от тумана. Под жабры дядя держал огромную рыбину— хвост ее распластался по земле, а голова доходила до дядиной груди. Она была ярко-серебряная с голубовато-серой спиной. Й Я 3 14 К ф рель, а может быть, и не хитрую, потому что она сидела в глубокой яме под камнем, как в голубой ванне, и когда я забрасывал туда 21 |








