Костёр 1967-11, страница 23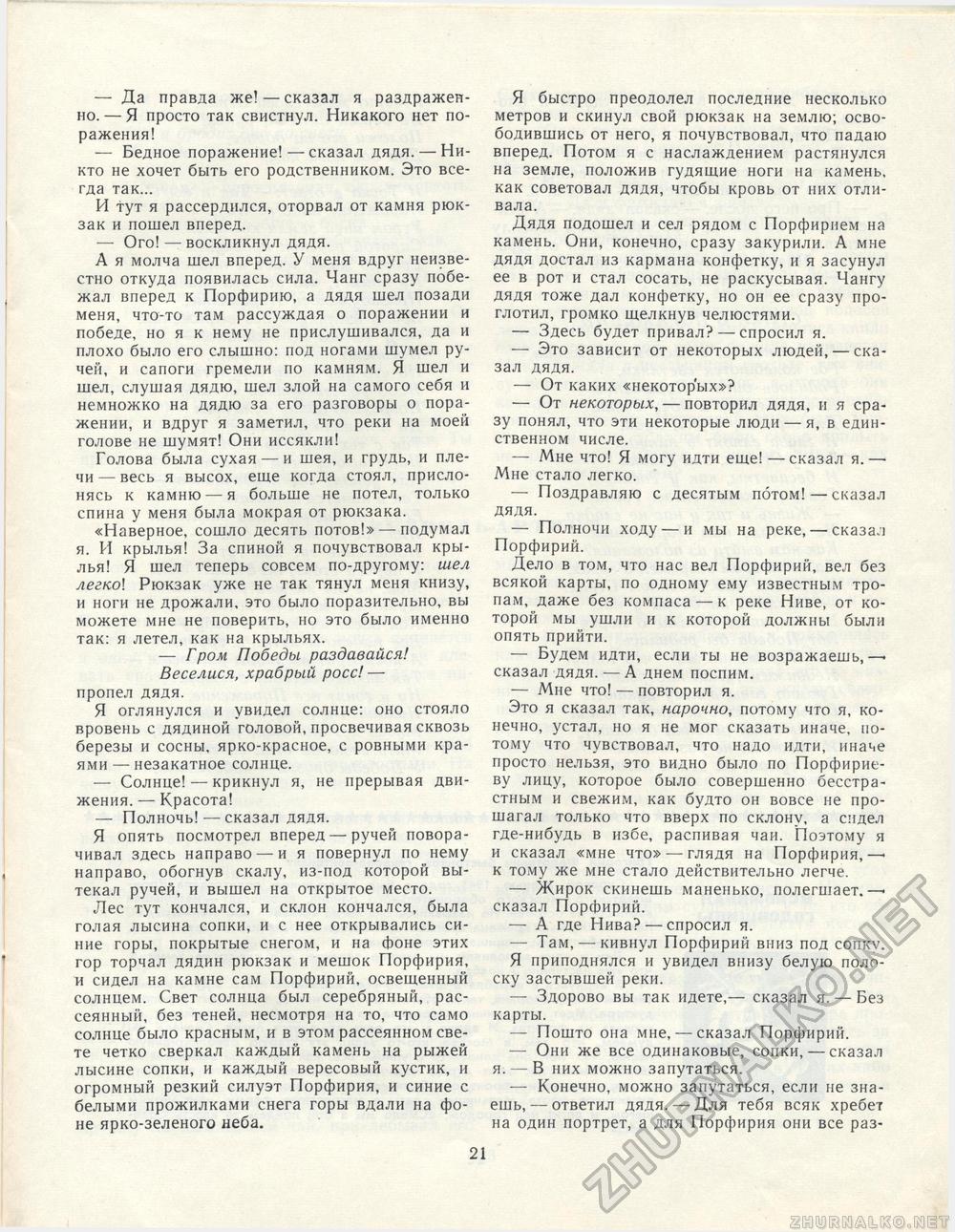
Да правда же! — сказал я раздраженно. — Я просто так свистнул. Никакого нет поражения! — Бедное поражение!—сказал дядя. — Никто не хочет быть его родственником. Это всегда так... И тут я рассердился, оторвал от камня рюкзак и пошел вперед. — Ого! — воскликнул дядя. А я молча шел вперед. У меня вдруг неизвестно откуда появилась сила. Чанг сразу побежал вперед к Порфирию, а дядя шел позади меня, что-то там рассуждая о поражении и победе, но я к нему не прислушивался, да и плохо было его слышно: под ногами шумел ручей, и сапоги гремели по камням. Я шел и шел, слушая дядю, шел злой на самого себя и немножко на дядю за его разговоры о поражении, и вдруг я заметил, что реки на моей голове не шумят! Они иссякли! Голова была сухая — и шея, и грудь, и плечи — весь я высох, еще когда стоял, прислонясь к камню — я больше не потел, только спина у меня была мокрая от рюкзака. «Наверное, сошло десять потов!» — подумал я. И крылья! За спиной я почувствовал крылья! Я шел теперь совсем по-другому: шел легко\ Рюкзак уже не так тянул меня книзу, и ноги не дрожали, это было поразительно, вы можете мне не поверить, но это было именно так: я летел, как на крыльях. — Гром Победы раздавайся! Веселися, храбрый росс! пропел дядя. Я оглянулся и увидел солнце: оно стояло вровень с дядиной головой, просвечивая сквозь березы и сосны, ярко-красное, с ровными краями— незакатное солнце. Солнце! — крикнул я, не прерывая движения. — Красота! — Полночь! — сказал дядя. Я опять посмотрел вперед — ручей поворачивал здесь направо — и я повернул по нему направо, обогнув скалу, из-под которой вытекал ручей, и вышел на открытое место. Лес тут кончался, и склон кончался, была голая лысина сопки, и с нее открывались синие горы, покрытые снегом, и на фоне этих гор торчал дядин рюкзак и мешок Порфирия, и сидел на камне сам Порфирий, освещенный солнцем. Свет солнца был серебряный, рассеянный, без теней, несмотря на то, что само солнце было красным, и в этом рассеянном свете четко сверкал каждый камень на рыжей лысине сопки, и каждый вересовый кустик, и огромный резкий силуэт Порфирия, и синие с белыми прожилками снега горы вдали на фоне ярко-зеленого неба. сказал я. дядя. Я быстро преодолел последние несколько метров и скинул свой рюкзак на землю; освободившись от него, я почувствовал, что падаю вперед. Потом я с наслаждением растянулся на земле, положив гудящие ноги на камень, как советовал дядя, чтобы кровь от них отливала. Дядя подошел и сел рядом с Порфирием на камень. Они, конечно, сразу закурили. А мне дядя достал из кармана конфетку, и я засунул ее в рот и стал сосать, не раскусывая. Чангу дядя тоже дал конфетку, но он ее сразу проглотил, громко щелкнув челюстями. — Здесь будет привал? — спросил я. — Это зависит от некоторых людей, — сказал дядя. — От каких «некоторых»? — От некоторых,— повторил дядя, и я сразу понял, что эти некоторые люди — я, в единственном числе. — Мне что! Я могу идти еще! — Мне стало легко. Поздравляю с десятым потом! — сказал Полночи ходу — и мы на реке, — сказал Порфирий. Дело в том, что нас вел Порфирий, вел без всякой карты, по одному ему известным тропам, даже без компаса — к реке Ниве, от которой мы ушли и к которой должны были опять прийти. — Будем идти, если ты не возражаешь, сказал дядя. — А днем поспим. Мне что! — повторил я. Это я сказал так, нарочно, потому что я, конечно, устал, но я не мог сказать иначе, потому что чувствовал, что надо идти, иначе просто нельзя, это видно было по Порфирие-ву лицу, которое было совершенно бесстрастным и свежим, как будто он вовсе не прошагал только что вверх по склону, а сидел где-нибудь в избе, распивая чаи. Поэтому я и сказал «мне что» — глядя на Порфирия, к тому же мне стало действительно легче. — Жирок скинешь маненько, полегшает. сказал Порфирий. — А где Нива? — спросил я. Там, — кивнул Порфирий вниз под сопку. Я приподнялся и увидел внизу белую поло- сказал я. Без ску застывшей реки. — Здорово вы так идете, карты. — Пошто она мне, — сказал Порфирий. — Они же все одинаковые, сопки, — сказал я. — В них можно запутаться. — Конечно, можно запутаться, если не знаешь,— ответил дядя. — Для тебя всяк хребет на один портрет, а для Порфирия они все раз- 21 |








