Костёр 1967-11, страница 25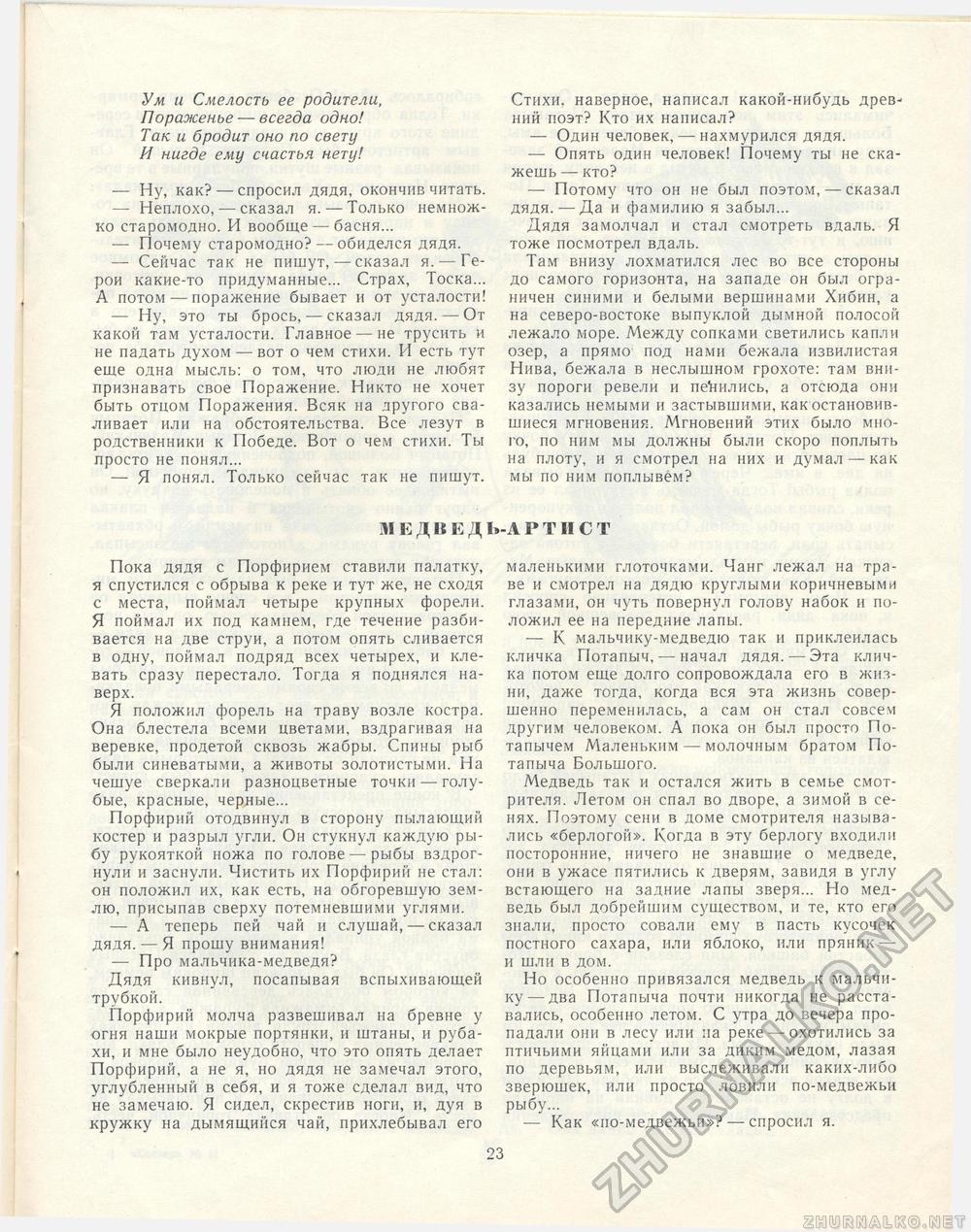
Ум и Смелость ее родители, Пораженье — всегда одно! Так и бродит оно по свету И нигде ему счастья нету! — Ну, как? — спросил дядя, окончив читать. — Неплохо, — сказал я. — Только немножко старомодно. И вообще — басня... — Почему старомодно? — обиделся дядя. — Сейчас так не пишут, — сказал я. — Герои какие-то придуманные... Страх, Тоска... А потом — поражение бывает и от усталости! — Ну, это ты брось, — сказал дядя. — От какой там усталости. Главное — не трусить и не падать духом — вот о чем стихи. И есть тут еще одна мысль: о том, что люди не любят признавать свое Поражение. Никто не хочет быть отцом Поражения. Всяк на другого сваливает или на обстоятельства. Все лезут в родственники к Победе. Вот о чем стихи. Ты просто не понял... — Я понял. Только сейчас так не пишут. Стихи, наверное, написал какой-нибудь древний поэт? Кто их написал? — Один человек, — нахмурился дядя. — Опять один человек! Почему ты не скажешь — кто? — Потому что он не был поэтом, — сказал дядя. — Да и фамилию я забыл... Дядя замолчал и стал смотреть вдаль. Я тоже посмотрел вдаль. Там внизу лохматился лес во все стороны до самого горизонта, на западе он был ограничен синими и белыми вершинами Хибин, а на северо-востоке выпуклой дымной полосой лежало море. Между сопками светились капли озер, а прямо под нами бежала извилистая Нива, бежала в неслышном грохоте: там внизу пороги ревели и пенились, а отсюда они казались немыми и застывшими, как остановившиеся мгновения. Мгновений этих было много, по ним мы должны были скоро поплыть на плоту, и я смотрел на них и думал — как мы по ним поплывем? М Е Д В Е Д Ь-А Р Т II С Т Пока дядя с Порфирием ставили палатку, я спустился с обрыва к реке и тут же, не сходя с места, поймал четыре крупных форели. Я поймал их под камнем, где течение разбивается на две струи, а потом опять сливается в одну, поймал подряд всех четырех, и клевать сразу перестало. Тогда я поднялся наверх. Я положил форель на траву возле костра. Она блестела всеми цветами, вздрагивая на веревке, продетой сквозь жабры. Спины рыб были синеватыми, а животы золотистыми. На чешуе сверкали разноцветные точки — голубые, красные, черные... Порфирий отодвинул в сторону пылающий костер и разрыл угли. Он стукнул каждую рыбу рукояткой ножа по голове — рыбы вздрогнули и заснули. Чистить их Порфирий не стал: он положил их, как есть, на обгоревшую землю, присыпав сверху потемневшими углями. — А теперь пей чай и слушай, — сказал дядя. — Я прошу внимания! — Про мальчика-медведя? Дядя кивнул, посапывая вспыхивающей трубкой. Порфирий молча развешивал на бревне у огня наши мокрые портянки, и штаны, и рубахи, и мне было неудобно, что это опять делает Порфирий, а не я, но дядя не замечал этого, углубленный в себя, и я тоже сделал вид, что не замечаю. Я сидел, скрестив ноги, и, дуя в кружку на дымящийся чай, прихлебывал его маленькими глоточками. Чанг лежал на траве и смотрел на дядю круглыми коричневыми глазами, он чуть повернул голову набок и положил ее на передние лапы. — К мальчику-медведю так и приклеилась кличка Потапыч, — начал дядя. — Эта кличка потом еще долго сопровождала его в жизни, даже тогда, когда еся эта жизнь совершенно переменилась, а сам он стал совсем другим человеком. А пока он был просто По-тапычем Маленьким — молочным братом По-тапыча Большого. Медведь так и остался жить в семье смотрителя. Летом он спал во дворе, а зимой в сенях. Поэтому сени в доме смотрителя назывались «берлогой». Когда в эту берлогу входили посторонние, ничего не знавшие о медведе, они в ужасе пятились к дверям, завидя в углу встающего на задние лапы зверя... Но медведь был добрейшим существом, и те, кто его знали, просто совали ему в пасть кусочек постного сахара, или яблоко, или пряник — и шли в дом. Но особенно привязался медведь к мальчику— два Потапыча почти никогда не расставались, особенно летом. С утра до вечера пропадали они в лесу или па реке — охотились за птичьими яйцами или за диким медом, лазая по деревьям, или выслеживали каких-либо зверюшек, или просто ловили по-медвежьи рыбу... — Как «по-медвежьи»? — спросил я. |








