Костёр 1968-08, страница 29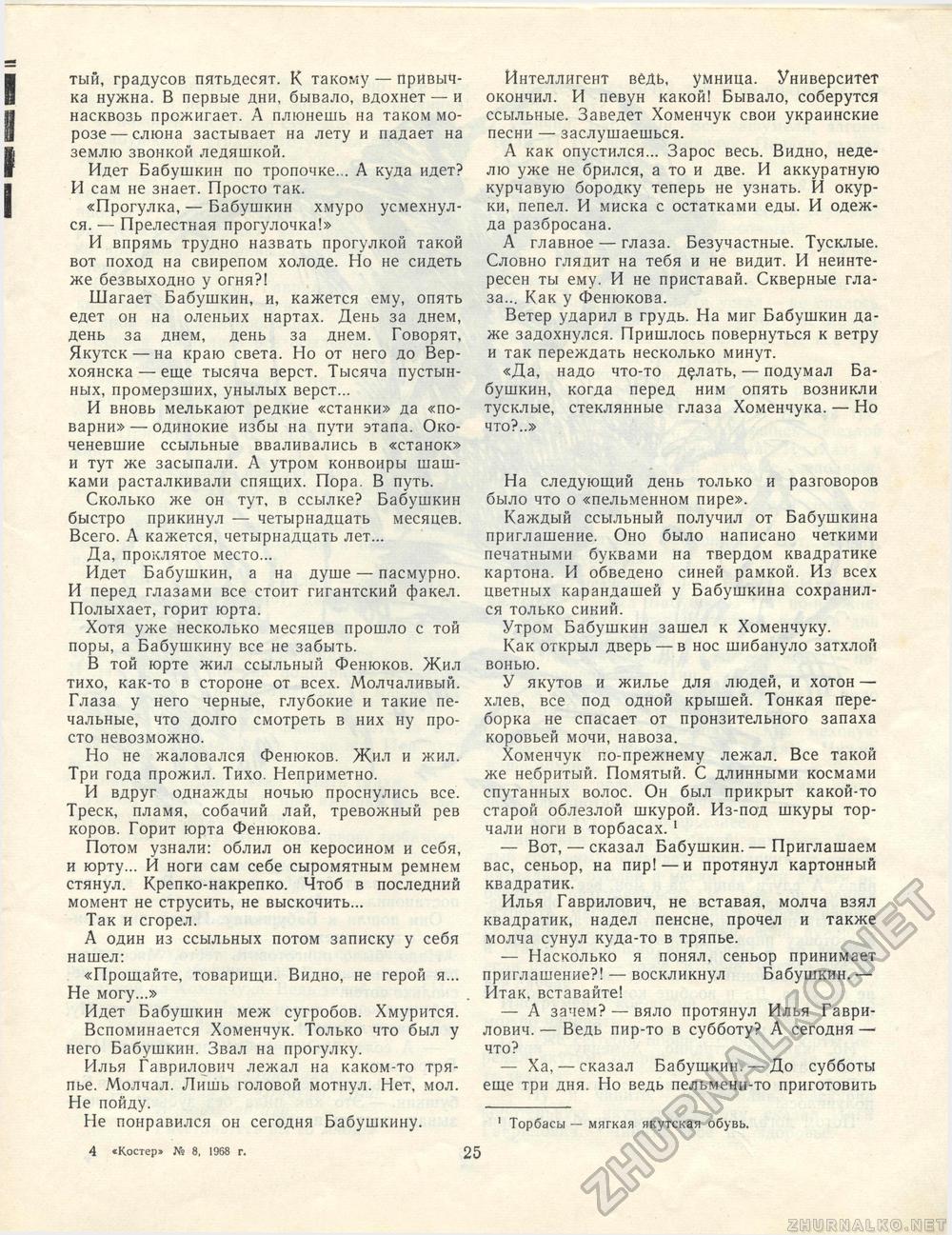
тый, градусов пятьдесят. К такому — привычка нужна. В первые дни, бывало, вдохнет — и насквозь прожигает. А плюнешь на таком морозе— слюна застывает на лету и падает на землю звонкой ледяшкой. Идет Бабушкин по тропочке... А куда идет? И сам не знает. Просто так. «Прогулка, — Бабушкин хмуро усмехнулся. — Прелестная прогулочка!» И впрямь трудно назвать прогулкой такой вот поход на свирепом холоде. Но не сидеть же безвыходно у огня?! Шагает Бабушкин, и, кажется ему, опять едет он на оленьих нартах. День за днем, день за днем, день за днем. Говорят, Якутск — на краю света. Но от него до Верхоянска — еще тысяча верст. Тысяча пустынных, промерзших, унылых верст... И вновь мелькают редкие «станки» да «поварни» — одинокие избы на пути этапа. Окоченевшие ссыльные вваливались в «станок» и тут же засыпали. А утром конвоиры шашками расталкивали спящих. Пора. В путь. Сколько же он тут, в ссылке? Бабушкин быстро прикинул — четырнадцать месяцев. Всего. А кажется, четырнадцать лет... Да, проклятое место... Идет Бабушкин, а на душе — пасмурно. И перед глазами все стоит гигантский факел. Полыхает, горит юрта. Хотя уже несколько месяцев прошло с той поры, а Бабушкину все не забыть. 3 той юрте жил ссыльный Фенюков. Жил тихо, как-то в стороне от всех. Молчаливый. Глаза у него черные, глубокие и такие печальные, что долго смотреть в них ну просто невозможно. Но не жаловался Фенюков. Жил и жил. Три года прожил. Тихо. Неприметно. И вдруг однажды ночью проснулись все. Треск, пламя, собачий лай, тревожный рев коров. Горит юрта Фенюкова. Потом узнали: облил он керосином и себя, и юрту... И ноги сам себе сыромятным ремнем стянул. Крепко-накрепко. Чтоб в последний момент не струсить, не выскочить... Так и сгорел. А один из ссыльных потом записку у себя нашел: «Прощайте, товарищи. Видно, не герой я... Не могу...» Идет Бабушкин меж сугробов. Хмурится. Вспоминается Хоменчук. Только что был у него Бабушкин. Звал на прогулку. Илья Гаврилович лежал на каком-то тряпье. Молчал. Лишь головой мотнул. Нет, мол. Не пойду. Не понравился он сегодня Бабушкину. Интеллигент ведь, умница. Университет окончил. И певун какой! Бывало, соберутся ссыльные. Заведет Хоменчук свои украинские песни — заслушаешься. А как опустился... Зарос весь. Видно, неделю уже не брился, а то и две. И аккуратную курчавую бородку теперь не узнать. И окурки, пепел. И миска с остатками еды. И одежда разбросана. А главное — глаза. Безучастные. Тусклые. Словно глядит на тебя и не видит. И неинтересен ты ему. И не приставай. Скверные глаза... Как у Фенюкова. Ветер ударил в грудь. На миг Бабушкин даже задохнулся. Пришлось повернуться к ветру и так переждать несколько минут. «Да, надо что-то делать, — подумал Бабушкин, когда перед ним опять возникли тусклые, стеклянные глаза Хоменчука. — Но что?..» На следующий день только и разговоров было что о «пельменном пире». Каждый ссыльный получил от Бабушкина приглашение. Оно было написано четкими печатными буквами на твердом квадратике картона. И обведено синей рамкой. Из всех цветных карандашей у Бабушкина сохранился только синий. Утром Бабушкин зашел к Хоменчуку. Как открыл дверь — в нос шибануло затхлой вонью. У якутов и жилье для людей, и хотон — хлев, все под одной крышей. Тонкая переборка не спасает от пронзительного запаха коровьей мочи, навоза. Хоменчук по-прежнему лежал. Все такой же небритый. Помятый. С длинными космами спутанных волос. Он был прикрыт какой-то старой облезлой шкурой. Из-под шкуры торчали ноги в торбасах. 1 — Вот, — сказал Бабушкин. — Приглашаем вас, сеньор, на пир! — и протянул картонный квадратик. Илья Гаврилович, не вставая, молча взял квадратик, надел пенсне, прочел и также молча сунул куда-то в тряпье. — Насколько я понял, сеньор принимает приглашение?! — воскликнул Бабушкин. — Итак, вставайте! — А зачем? — вяло протянул Илья Гаврилович. — Ведь пир-то в субботу? А сегодня — что? — Ха, — сказал Бабушкин. — До субботы еще три дня. Но ведь пельмени-то приготовить Торбасы — мягкая якутская обувь. 4 «Костер» № 8, 1968 г. 25 |








