Костёр 1972-02, страница 51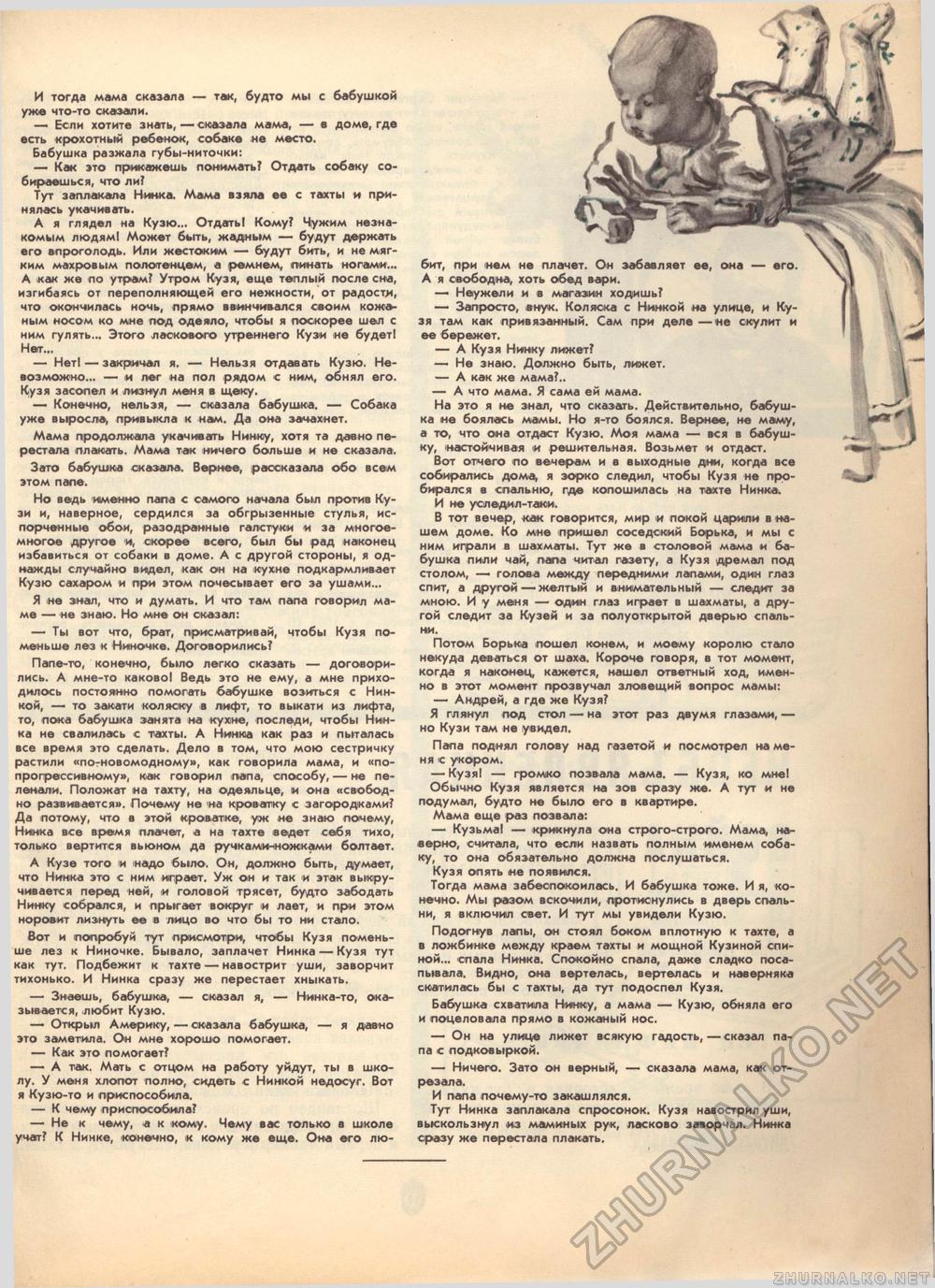
И тогда мама сказала — так, будто мы с бабушкой уже что-то сказали. — Если хотите знать, — сказала мама, — в доме, где есть крохотный ребенок, собаке не место. Бабушка разжала губы-ниточки: — Как это прикажешь понимать? Отдать собаку собираешься, что ли? Тут заплакала Нинка. Мама взяла ее с тахты и принялась укачивать. А я глядел на Кузю... Отдать! Кому? Чужим незнакомым людям! Может быть, жадным — будут держать его впроголодь. Или жестоким — будут бить, и не мягким махровым полотенцем, а ремнем, пинать ногами... А как же по утрам? Утром Кузя, еще теплый после сна, изгибаясь от переполняющей его нежности, от радости, что окончилась ночь, прямо ввинчивался своим кожаным носом ко мне под одеяло, чтобы я поскорее шел с ним гулять... Этого ласкового утреннего Куэи не будет! Негг... — Нет! — закричал я. — Нельзя отдавать Кузю. Невозможно... — и лег на пол рядом с ним, обнял его. Кузя засопел и лизнул меня в щеку. — Конечно, нельзя, — сказала бабушка. — Собака уже выросла, привыкла к нам. Да она зачахнет. Мама продолжала укачивать Нинку, хотя та давно перестала плакать. Мама так ничего больше и не сказала. Зато бабушка оказала. Вернее, рассказала обо всем этом пале. Но ведь именно папа с самого начала был против Ку-зи и, наверное, сердился за обгрызенные стулья, испорченные обои, разодранные галстуки и за многое-многое другое и, скорее всего, был бы рад наконец избавиться от собаки в доме. А с другой стороны, я однажды случайно видел, как он на кухне подкармливает Кузю сахаром и при этом почесывает его за ушами... Я не знал, что и думать. И что там папа говорил маме —не знаю. Но мне он оказал: — Ты вот что, брат, присматривай, чтобы Кузя поменьше лез к Ниночке. Договорились? Папе-то, конечно, было легко сказать — договорились. А мне-то каково! Ведь это не ему, а мне приходилось постоянно помогать бабушке возиться с Нинкой, — то закати коляску в лифт, то выкати из лифта, то, пока бабушка занята на кухне, последи, чтобы Нинка не свалилась с тахты. А Нинка как раз и пыталась все время это сделать. Дело в том, что мою сестричку растили «потновомодному», как говорила мама, и «по-прогрессивному», как говорил папа, способу, — не пеленали. Положат на тахту, на одеяльце, и она «свободно развивается». Почему не на кроватку с загородками? Да потому, что в этой кроватке, уж не знаю почему, Нинка все время плачет, а на тахте ведет себя тихо, только вертится вьюном да ручкамичножками болтает. А Кузе того и надо было. Он, должно быть, думает, что Нинка это с ним играет. Уж он и так и этак выкручивается перед ней, и головой трясет, будто забодать Нинку собрался, и прыгает вокруг и лает, и при этом норовит лизнуть ее в лицо во что бы то ни стало. Вот и попробуй тут присмотри, чтобы Кузя поменьше лез к Ниночке. Бывало, заплачет Нинка — Кузя тут как тут. Подбежит к тахте — навострит уши, заворчит тихонько. И Нинка сразу же перестает хныкать. — Знаешь, бабушка, — оказал я, — Нинка-то, оказывается, любит Кузю. — Открыл Америку, —оказала бабушка, — я давно это заметила. Он мне хорошо помогает. — Как это помогает? — А так. Мать с отцом на работу уйдут, ты в школу. У меня хлопот полно, сидеть с Нинкой недосуг. Вот я Кузю-то и приспособила. — К чему приспособила? — Не к чему, а к кому. Чему вас только в школе учат? К Нинке, конечно, к кому же еще. Она его лю бит, при нем не плачет. Он забавляет ее, она — его. А я свободна, хоть обед вари. — Неужели и в магазин ходишь? — Запросто, внук. Коляска с Нинкой на улице, и Кузя там как привязанный. Сам при деле —не скулит и ее бережет. — А Кузя Нинку лижет? —• Не знаю. Должно быть, лижет. — А как же мама?.. — А что мама. Я сама ей мама. На это я не знал, что сказать. Действительно, бабушка не боялась мамы. Но я-то боялся. Вернее, не маму, а то, что она отдаст Кузю. Моя мама — вся в бабушку, настойчивая и решительная. Возьмет и отдаст. Вот отчего по вечерам и в выходные дни, когда все собирались дома, я зорко следил, чтобы Кузя не пробирался в спальню, где копошилась на тахте Нинка. И не уследил-таки. В тот вечер, как говорится, мир и покой царили в нашем доме. Ко мне пришел соседский Борька, и мы с ним играли в шахматы. Тут же в столовой мама и бабушка пили чай, папа читал газету, а Кузя дремал под столом, — голова между передними лапами, один глаз спит, а другой — желтый и внимательный — следит за мною. И у меня — один глаз играет в шахматы, а другой следит за Кузей и за полуоткрытой дверью спальни. Потом Борька пошел конем, и моему королю стало некуда деваться от шаха. Короче говоря, в тот момент, когда я наконец, кажется, нашел ответный ход, именно в этот момент прозвучал зловещий вопрос мамы: — Андрей, а где же Кузя? Я глянул под стол — на этот раз двумя глазами, — но Кузи там не увидел. Папа поднял голову над газетой и посмотрел на меня с укором. — Кузя! — громко позвала мама. — Кузя, ко мне! Обычно Кузя является на зов сразу же. А тут и не подумал, будто не было его в квартире. Мама еще раз позвала: — Кузьма! — крикнула она строго-строго. Мама, наверно, считала, что если назвать полным именем собаку, то она обязательно должна послушаться. Кузя опять не появился. Тогда мама забеспокоилась. И бабушка тоже. И я, конечно. Мы разом вскочили, протиснулись в дверь спальни, я включил свет. И тут мы увидели Кузю. Подогнув лапы, он стоял боком вплотную к тахте, а в ложбинке между краем тахты и мощной Кузиной спиной... опала Нинка. Спокойно спала, даже сладко посапывала. Видно, она вертелась, вертелась и наверняка скатилась бы с тахты, да тут подоспел Кузя. Бабушка схватила Нинку, а мама — Кузю, обняла его и поцеловала прямо в кожаный нос. — Он на улице лижет всякую гадость, — сказал папа с подковыркой. — Ничего. Зато он верный, — сказала мама, как отрезала. И папа почему-то закашлялся. Тут Нинка заплакала спросонок. Кузя навострил уши, выскользнул из маминых рук, ласково заворчал. Нинка сразу же перестала плакать. |








