Костёр 1977-10, страница 8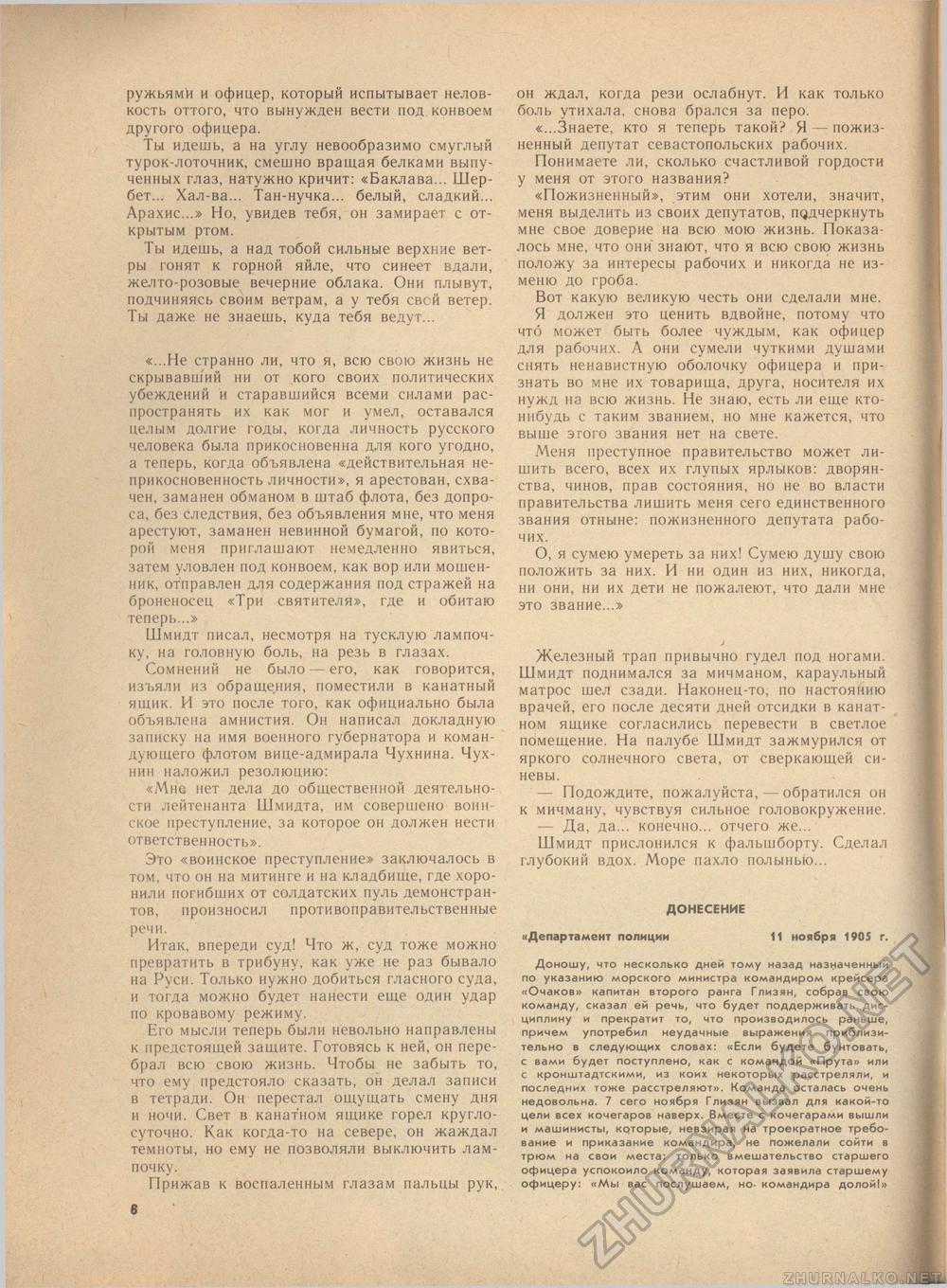
ружьямк и офицер, который испытывает неловкость оттого, что вынужден вести под конвоем другого офицера. Ты идешь, а на углу невообразимо смуглый турок-лоточник, смешно вращая белками выпученных глаз, натужно кричит: «Баклава... Шербет... Хал-ва... Тан-нучка... белый, сладкий... Арахис...» Но, увидев тебя, он замирает с открытым ртом. Ты идешь, а над тобой сильные верхние ветры гонят к горной яйле, что синеет вдали, желто-розовые вечерние облака. Они плывут, подчиняясь своим ветрам, а у тебя свой ветер. Ты даже не знаешь, куда тебя ведут... «...Не странно ли, что я, всю свою жизнь не скрывавший ни от кого своих политических убеждений и старавшийся всеми силами распространять их как мог и умел, оставался целым долгие годы, когда личность русского человека была прикосновенна для кого угодно, а теперь, когда объявлена «действительная неприкосновенность личности», я арестован, схвачен, заманен обманом в штаб флота, без допроса, без следствия, без объявления мне, что меня арестуют, заманен невинной бумагой, по которой меня приглашают немедленно явиться, затем уловлен под конвоем, как вор или мошенник, отправлен для содержания под стражей на броненосец «Три святителя», где и обитаю теперь...» Шмидт писал, несмотря на тусклую лампочку, на головную боль, на резь в глазах. Сомнений не было — его, как говорится, изъяли из обращения, поместили в канатный ящик. И это после того, как официально была объявлена амнистия. Он написал докладную записку на имя военного губернатора и командующего флотом вице-адмирала Чухнина. Чух-нин наложил резолюцию: «Мне нет дела до общественной деятельности лейтенанта Шмидта, им совершено воинское преступление, за которое он должен нести ответственность». Это «воинское преступление» заключалось в том, что он на митинге и на кладбище, где хоронили погибших от солдатских пуль демонстрантов, произносил противоправительственные речи. Итак, впереди суд! Что ж, суд тоже можно превратить в трибуну, как уже не раз бывало на Руси. Только нужно добиться гласного суда, и тогда можно будет нанести еще один удар по кровавому режиму. Его мысли теперь были невольно направлены к предстоящей защите. Готовясь к ней, он перебрал всю свою жизнь. Чтобы не забыть то, что ему предстояло сказать, он делал записи в тетради. Он перестал ощущать смену дня и ночи. Свет в канатном ящике горел круглосуточно. Как когда-то на севере, он жаждал темноты, но ему не позволяли выключить лампочку. Прижав к воспаленным глазам пальцы рук, в он ждал, когда рези ослабнут. И как только боль утихала, снова брался за перо. «...Знаете, кто я теперь такой? Я - пожизненный депутат севастопольских рабочих. Понимаете ли, сколько счастливой гордости у меня от этого названия? «Пожизненный», этим они хотели, значит, меня выделить из своих депутатов, подчеркнуть мне свое доверие на всю мою жизнь. Показалось мне, что они знают, что я всю свою жизнь положу за интересы рабочих и никогда не изменю до гроба. Вот какую великую честь они сделали мне. Я должен это ценить вдвойне, потому что что может быть более чуждым, как офицер для рабочих. А они сумели чуткими душами снять ненавистную оболочку офицера и признать во мне их товарища, друга, носителя их нужд на всю жизнь. Не знаю, есть ли еще кто-нибудь с таким званием, но мне кажется, что выше этого звания нет на свете. Меня преступное правительство может лишить всего, всех их глупых ярлыков: дворянства, чинов, прав состояния, но не во власти правительства лишить меня сего единственного звания отныне: пожизненного депутата рабочих. О, я сумею умереть за них! Сумею душу свою положить за них. И ни один из них, никогда, ни они, ни их дети не пожалеют, что дали мне это звание...» Железный трап привычно гудел под ногами. Шмидт поднимался за мичманом, караульный матрос шел сзади. Наконец-то, по настоянию врачей, его после десяти дней отсидки в канатном ящике согласились перевести в светлое помещение. На палубе Шмидт зажмурился от яркого солнечного света, от сверкающей синевы. — Подождите, пожалуйста, — обратился он к мичману, чувствуя сильное головокружение. — Да, да... конечно... отчего же... Шмидт прислонился к фальшборту. Сделал глубокий вдох. Море пахло полынью... ДОНЕСЕНИЕ «Департамент полиции 11 ноября 1905 г. Доношу, что несколько дней тому назад назначенный по указанию морского министра командиром крейсера «Очаков» капитан второго ранга Глизян, собрав свою команду, сказал ей речь, что будет поддерживать дисциплину и прекратит то, что производилось раньше, причем употребил неудачные выражения приблизительно в следующих словах: «Если будете бунтовать, с вами будет поступлено, как с командой «Прута» или с кронштадтскими, из коих некоторых расстреляли, и последних тоже расстреляют». Команда осталась очень недовольна. 7 сего ноября Глизян вызвал для какой-то цели всех кочегаров наверх. Вместе с кочегарами вышли и машинисты, которые, невзирая на троекратное требование и приказание командира, не пожелали сойти в трюм на свои места: только вмешательство старшего офицера успокоило команду, которая заявила старшему офицеру: «Мы вас послушаем, но- командира долой!» |








