Костёр 1987-03, страница 31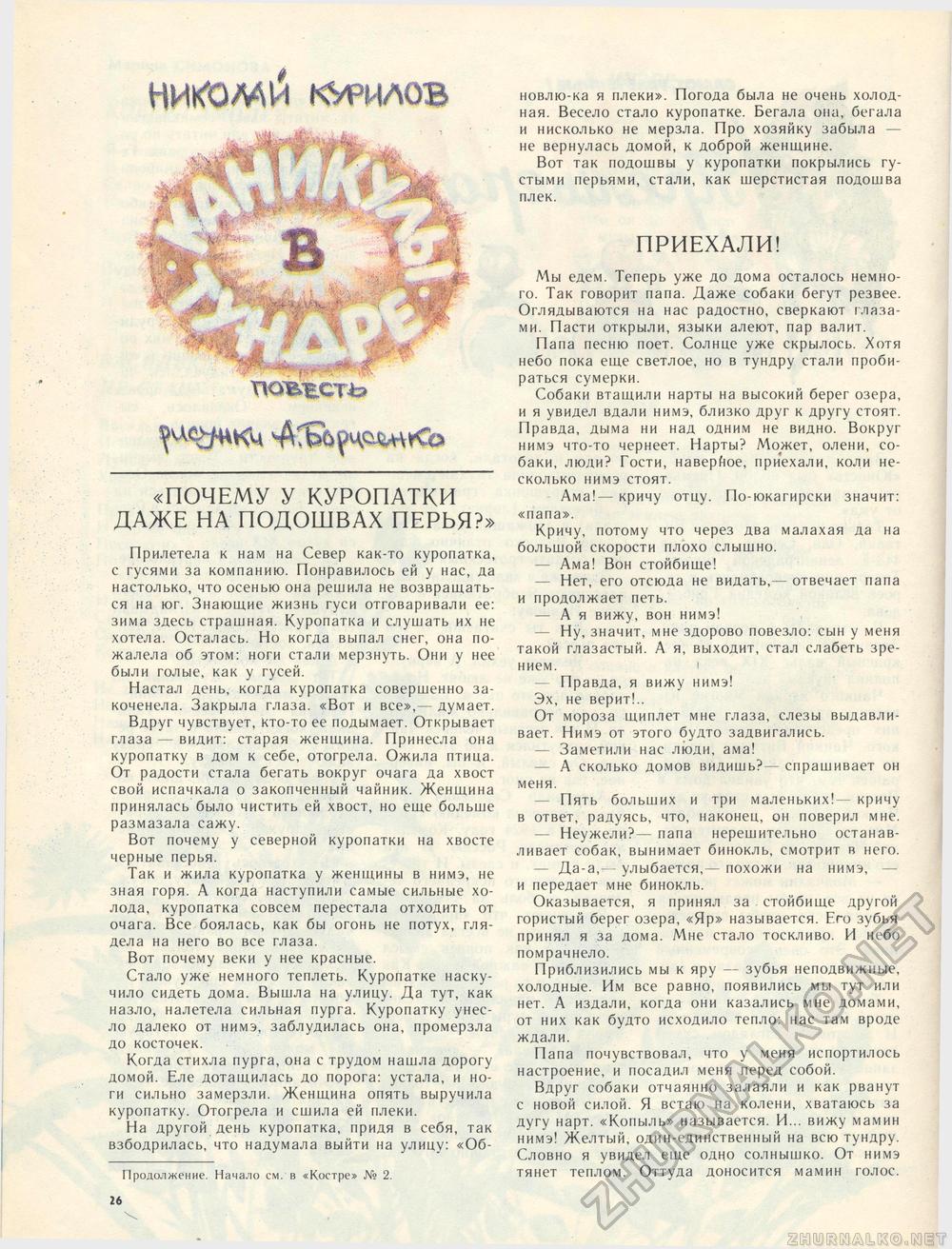
«ПОЧЕМУ У КУРОПАТКИ ДАЖЕ НА ПОДОШВАХ ПЕРЬЯ?»Прилетела к нам на Север как-то куропатка, с гусями за компанию. Понравилось ей у нас, да настолько, что осенью она решила не возвращаться на юг. Знающие жизнь гуси отговаривали ее: зима здесь страшная. Куропатка и слушать их не хотела. Осталась. Но когда выпал снег, она пожалела об этом: ноги стали мерзнуть. Они у нее были голые, как у гусей. Настал день, когда куропатка совершенно закоченела. Закрыла глаза. «Вот и все»,— думает. Вдруг чувствует, кто-то ее подымает. Открывает глаза — видит: старая женщина. Принесла она куропатку в дом к себе, отогрела. Ожила птица. От радости стала бегать вокруг очага да хвост свой испачкала о закопченный чайник. Женщина принялась было чистить ей хвост, но еще больше размазала сажу. Вот почему у северной куропатки на хвосте черные перья. Так и жила куропатка у женщины в нимэ, не зная горя. А когда наступили самые сильные холода, куропатка совсем перестала отходить от очага. Все боялась, как бы огонь не потух, глядела на него во все глаза. Вот почему веки у нее красные. Стало уже немного теплеть. Куропатке наскучило сидеть дома. Вышла на улицу. Да тут, как назло, налетела сильная пурга. Куропатку унесло далеко от нимэ, заблудилась она, промерзла до косточек. Когда стихла пурга, она с трудом нашла дорогу домой. Еле дотащилась до порога: устала, и ноги сильно замерзли. Женщина опять выручила куропатку. Отогрела и сшила ей плеки. На другой день куропатка, придя в себя, так взбодрилась, что надумала выйти на улицу: «06- новлю-ка я плеки». Погода была не очень холодная. Весело стало куропатке. Бегала она, бегала и нисколько не мерзла. Про хозяйку забыла — не вернулась домой, к доброй женщине. Вот так подошвы у куропатки покрылись густыми перьями, стали, как шерстистая подошва плек. ПРИЕХАЛИ!Мы едем. Теперь уже до дома осталось немного. Так говорит папа. Даже собаки бегут резвее. Оглядываются на нас радостно, сверкают глазами. Пасти открыли, языки алеют, пар валит. Папа песню поет. Солнце уже скрылось. Хотя небо пока еще светлое, но в тундру стали пробираться сумерки. Собаки втащили нарты на высокий берег озера, и я увидел вдали нимэ, близко друг к другу стоят. Правда, дыма ни над одним не видно. Вокруг нимэ что-то чернеет. Нарты? Может, олени, собаки, люди? Гости, наверное, приехали, коли несколько нимэ стоят. - Ама!— кричу отцу. По-юкагирски значит: «папа». Кричу, потому что через два малахая да на большой скорости плохо слышно. — Ама! Вон стойбище! — Нет, его отсюда не видать,— отвечает папа и продолжает петь. — А я вижу, вон нимэ! — Ну, значит, мне здорово повезло: сын у меня такой глазастый. А я, выходит, стал слабеть зрением. | — Правда, я вижу нимэ! Эх, не верит!., От мороза щиплет мне глаза, слезы выдавливает. Нимэ от этого будто задвигались. — Заметили нас люди, ама! — А сколько домов видишь?— спрашивает он меня. Продолжение. Начало см. в «Костре» № 2. — Пять больших и три маленьких!— кричу в ответ, радуясь, что, наконец, он поверил мне. — Неужели?— папа нерешительно останавливает собак, вынимает бинокль, смотрит в него. — Да-а,^- улыбается,— похожи на нимэ, — и передает мне бинокль. Оказывается, я принял за . стойбище другой гористый берег озера, «Яр» называется. Его зубья принял я за дома. Мне стало тоскливо. И небо помрачнело. Приблизились мы к яру — зубья неподвижные, холодные. Им все равно, появились мы тут или нет. А издали, когда они казались мне домами, от них как будто исходило тепло: нас там вроде ждали. Папа почувствовал, что у меня испортилось настроение, и посадил меня перед собой. Вдруг собаки отчаянно залаяли и как рванут с новой силой. Я встаю на колени, хватаюсь за дугу нарт. «Копыль» называется. И... вижу мамин нимэ! Желтый, один-единственный на всю тундру. Словно я увидел еще одно солнышко. От нимэ тянет теплом. Оттуда доносится мамин голос. |








