Костёр 1989-01, страница 23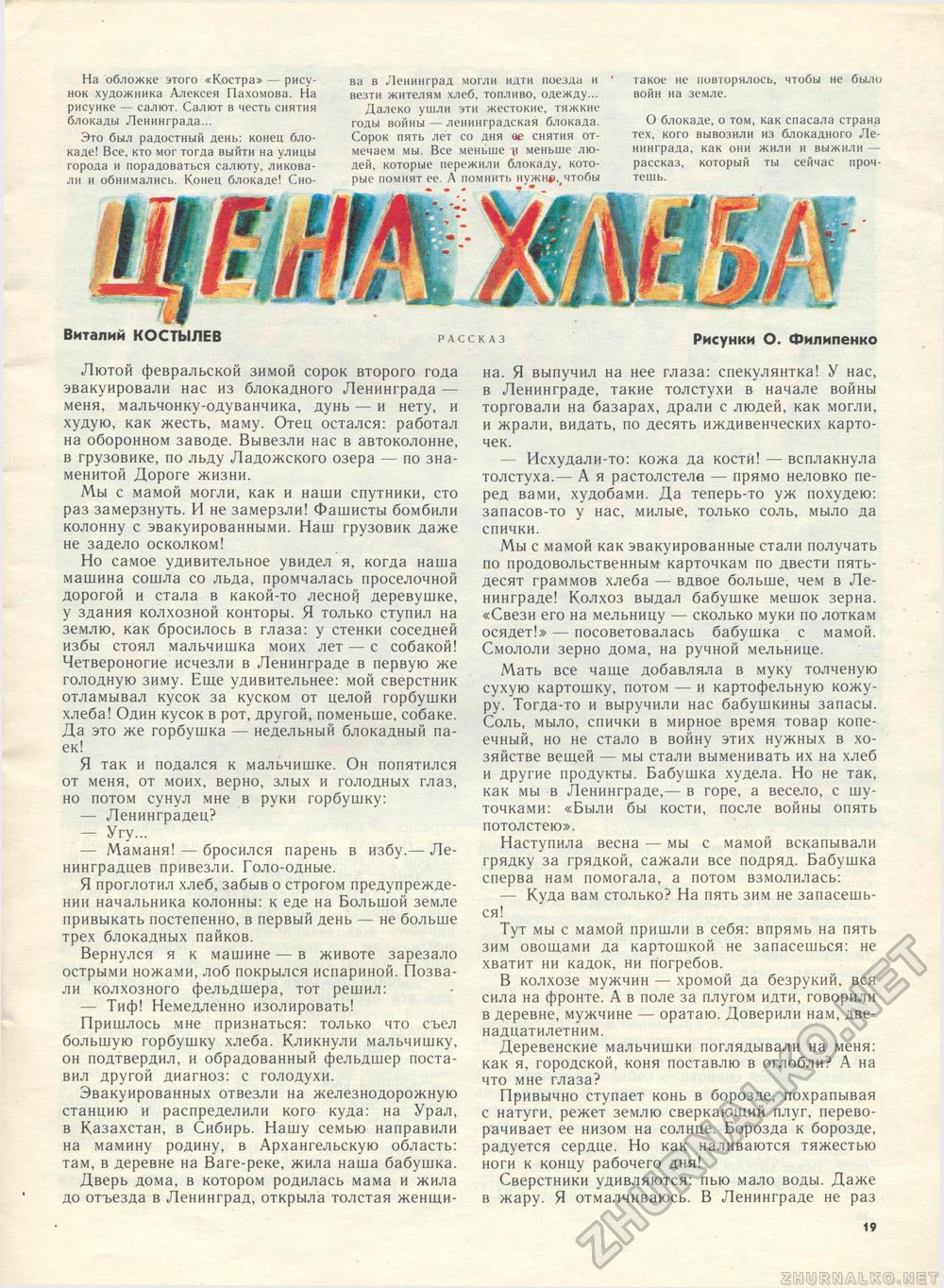
ва в Ленинград могли идти поезда и ' везти жителям хлеб, топливо, одежду... Далеко ушли эти жестокие, тяжкие годы войны — ленинградская блокада. Сорок пять лет со дня ее снятия отмечаем мы. Все меньше у меньше людей, которые пережили блокаду, которые помнят ее. А помнить нужн^чтобы Виталий КОСТЫЛЕВ рассказ На обложке этого «Костра» — рисунок художника Алексея Пахомова. На рисунке — салют. Салют в честь снятия блокады Ленинграда... Это был радостный день: конец блокаде! Все, кто мог тогда выйти на улицы города и порадоваться салюту, ликовали и обнимались. Конец блокаде! Сно такое не повторялось, чтобы не было войн на земле. О блокаде, о том, как спасала страна тех, кого вывозили из блокадного Ленинграда, как они жили и выжили — рассказ, который ты сейчас прочтешь. Рисунки О. Филипенко Лютой февральской зимой сорок второго года эвакуировали нас из блокадного Ленинграда — меня, мальчонку-одуванчика, дунь — и нету, и худую, как жесть, маму. Отец остался: работал на оборонном заводе. Вывезли нас в автоколонне, в грузовике, по льду Ладожского озера — по знаменитой Дороге жизни. Мы с мамой могли, как и наши спутники, сто раз замерзнуть. И не замерзли! Фашисты бомбили колонну с эвакуированными. Наш грузовик даже не задело осколком! % Но самое удивительное увидел я, когда наша машина сошла со льда, промчалась проселочной дорогой и стала в какой-то лесной деревушке, у здания колхозной конторы. Я только ступил на землю, как бросилось в глаза: у стенки соседней избы стоял мальчишка моих лет — с собакой! Четвероногие исчезли в Ленинграде в первую же голодную зиму. Еще удивительнее: мой сверстник отламывал кусок за куском от целой горбушки хлеба! Один кусок в рот, другой, поменьше, собаке. Да это же горбушка — недельный блокадный паек! Я так и подался к мальчишке. Он попятился от меня, от моих, верно, злых и голодных глаз, но потом сунул мне в руки горбушку: — Ленинградец? — Угу... ®" ;v — Маманя! — бросился парень в избу.— Ленинградцев привезли. Голо-одные. Я проглотил хлеб, забыв о строгом предупреждении начальника колонны: к еде на Большой земле привыкать постепенно, в первый день — не больше трех блокадных пайков. Вернулся я к машине — в животе зарезало острыми ножами, лоб покрылся испариной. Позвали колхозного фельдшера, тот решил: — Тиф! Немедленно изолировать! Пришлось мне признаться: только что съел большую горбушку хлеба. Кликнули мальчишку, он подтвердил, и обрадованный фельдшер поставил другой диагноз: с голодухи. Эвакуированных отвезли на железнодорожную станцию и распределили кого куда: на Урал, в Казахстан, в Сибирь. Нашу семью направили на мамину родину, в Архангельскую область: там, в деревне на Ваге-реке, жила наша бабушка. Дверь дома, в котором родилась мама и жила до отъезда в Ленинград, открыла толстая женщи на. Я выпучил на нее глаза: спекулянтка! У нас, в Ленинграде, такие толстухи в начале войны торговали на базарах, драли с людей, как могли, и жрали, видать, по десять иждивенческих карточек. — Исхудали-то: кожа да кости! — всплакнула толстуха.— А я растолстела — прямо неловко перед вами, худобами. Да теперь-то уж похудею: запасов-то у нас, милые, только соль, мыло да спички. Мы с мамой как эвакуированные стали получать по продовольственным карточкам по двести пятьдесят граммов хлеба — вдвое больше, чем в Ленинграде! Колхоз выдал бабушке мешок зерна. «Свези его на мельницу — сколько муки по лоткам осядет!» — посоветовалась бабушка с мамой. Смололи зерно дома, на ручной мельнице. Мать все чаще добавляла в муку толченую сухую картошку, потом — и картофельную кожуру. Тогда-то и выручили нас бабушкины запасы. Соль, мыло, спички в мирное время товар копеечный, но не стало в войну этих нужных в хозяйстве вещей — мы стали выменивать их на хлеб и другие продукты. Бабушка худела. Но не так, как мы в Ленинграде,— в горе, а весело, с шуточками: «Были бы кости, после войны опять потолстею». Наступила весна — мы с мамой вскапывали грядку за грядкой, сажали все подряд. Бабушка сперва нам помогала, а потом взмолилась: — Куда вам столько? На пять зим не запасешься! Тут мы с мамой пришли в себя: впрямь на пять зим овощами да картошкой не запасешься: не хватит ни кадок, ни погребов. В колхозе мужчин — хромой да безрукий, вся сила на фронте. А в поле за плугом идти, говорили в деревне, мужчине — оратаю. Доверили нам, двенадцатилетним. Деревенские мальчишки поглядывали на меня: как я, городской, коня поставлю в оглобли? А на что мне глаза? Привычно ступает конь в борозде, похрапывая с натуги, режет землю сверкающий плуг, переворачивает ее низом на солнце. Борозда к борозде, радуется сердце. Но как наливаются тяжестью ноги к концу рабочего дня! Сверстники удивляются: пью мало воды. Даже в жару. Я отмалчиваюсь. В Ленинграде не раз 19 |








