Костёр 1989-01, страница 24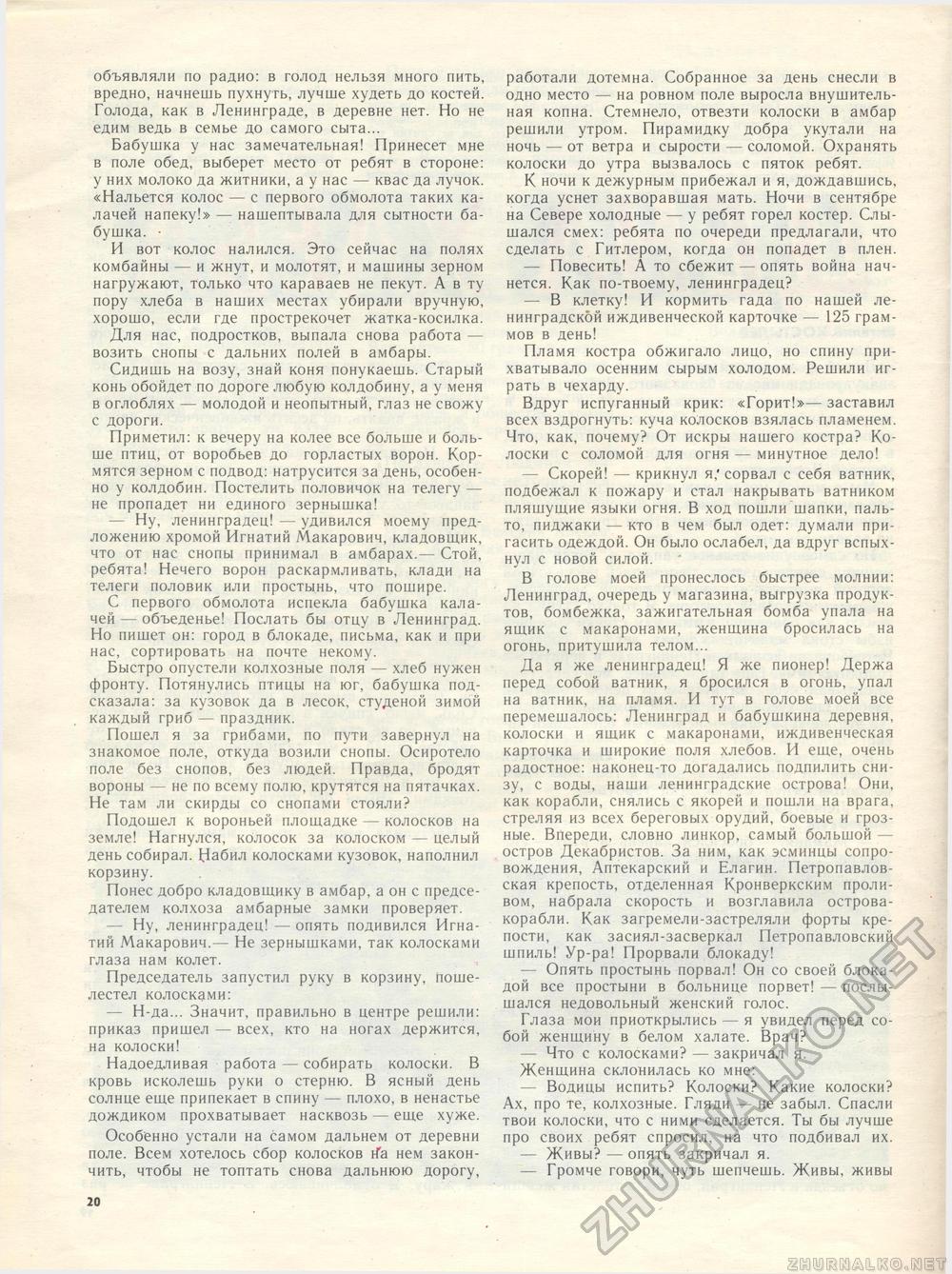
объявляли по радио: в голод нельзя много пить, вредно, начнешь пухнуть, лучше худеть до костей. Голода, как в Ленинграде, в деревне нет. Но не едим ведь в семье до самого сыта... Бабушка у нас замечательная! Принесет мне в поле обед, выберет место от ребят в стороне: у них молоко да житники, а у нас — квас да лучок. «Нальется колос — с первого обмолота таких калачей напеку!» — нашептывала для сытности бабушка. • И вот колос налился. Это сейчас на полях комбайны — и жнут, и молотят, и машины зерном нагружают, только что караваев не пекут. А в ту пору хлеба в наших местах убирали вручную, хорошо, если где прострекочет жатка-косилка. Для нас, подростков, выпала снова работа — возить снопы с дальних полей в амбары. Сидишь на возу, знай коня понукаешь. Старый конь обойдет по дороге любую колдобину, а у меня в оглоблях — молодой и неопытный, глаз не свожу с дороги. Приметил: к вечеру на колее все больше и больше птиц, от воробьев до горластых ворон. Кормятся зерном с подвод: натрусится за день, особенно у колдобин. Постелить половичок на телегу — не пропадет ни единого зернышка! — Ну, ленинградец! — удивился моему предложению хромой Игнатий Макарович, кладовщик, что от нас снопы принимал в амбарах.— Стой, ребята! Нечего ворон раскармливать, клади на телеги половик или простынь, что пошире. С первого обмолота испекла бабушка калачей — объеденье! Послать бы отцу в Ленинград. Но пишет он: город в блокаде, письма, как и при нас, сортировать на почте некому. Быстро опустели колхозные поля — хлеб нужен фронту. Потянулись птицы на юг, бабушка подсказала: за кузовок да в лесок, студеной зимой каждый гриб — праздник. Пошел я за грибами, по пути завернул на знакомое поле, откуда возили снопы. Осиротело поле без снопов, без людей. Правда, бродят вороны — не по всему полю, крутятся на пятачках. Не там ли скирды со снопами стояли? Подошел к вороньей площадке — колосков на земле! Нагнулся, колосок за колоском — целый день собирал. Набил колосками кузовок, наполнил корзину. Понес добро кладовщику в амбар, а он с председателем колхоза амбарные замки проверяет. — Ну, ленинградец! — опять подивился Игнатий Макарович.— Не зернышками, так колосками глаза нам колет. Председатель запустил руку в корзину, пошелестел колосками: — Н-да... Значит, правильно в центре решили: приказ пришел — всех, кто на ногах держится, на колоски! Надоедливая работа — собирать колоски. В кровь исколешь руки о стерню. В ясный день солнце еще припекает в спину — плохо, в ненастье дождиком прохватывает насквозь — еще хуже. Особенно устали на самом дальнем от деревни поле. Всем хотелось сбор колосков rfa нем закончить, чтобы не топтать снова дальнюю дорогу, работали дотемна. Собранное за день снесли в одно место — на ровном поле выросла внушительная копна. Стемнело, отвезти колоски в амбар решили утром. Пирамидку добра укутали на ночь — от ветра и сырости — соломой. Охранять колоски до утра вызвалось с пяток ребят. К ночи к дежурным прибежал и я, дождавшись, когда уснет захворавшая мать. Ночи в сентябре на Севере холодные — у ребят горел костер. Слышался смех: ребята по очереди предлагали, что сделать с Гитлером, когда он попадет в плен. — Повесить! А то сбежит — опять война начнется. Как по-твоему, ленинградец? — В клетку! И кормить гада по нашей ленинградской иждивенческой карточке — 125 граммов в день! Пламя костра обжигало лицо, но спину прихватывало осенним сырым холодом. Решили играть в чехарду. Вдруг испуганный крик: «Горит!»— заставил всех вздрогнуть: куча колосков взялась пламенем. Что, как, почему? От искры нашего костра? Колоски с соломой для огня — минутное дело! — Скорей! — крикнул я/сорвал с себя ватник, подбежал к пожару и стал накрывать ватником пляшущие языки огня. В ход пошли шапки, пальто, пиджаки — кто в чем был одет: думали пригасить одеждой. Он было ослабел, да вдруг вспыхнул с новой силой. В голове моей пронеслось быстрее молнии: Ленинград, очередь у магазина, выгрузка продуктов, бомбежка, зажигательная бомба упала на ящик с макаронами, женщина бросилась на огонь, притушила телом... Да я же ленинградец! Я же пионер! Держа перед собой ватник, я бросился в огонь, упал на ватник, на пламя. И тут в голове моей все перемешалось: Ленинград и бабушкина деревня, колоски и ящик с макаронами, иждивенческая карточка и широкие поля хлебов. И еще, очень радостное: наконец-то догадались подпилить снизу, с воды, наши ленинградские острова! Они, как корабли, снялись с якорей и пошли на врага, стреляя из всех береговых орудий, боевые и грозные. Впереди, словно линкор, самый большой — остров Декабристов. За ним, как эсминцы сопровождения, Аптекарский и Елагин. Петропавловская крепость, отделенная Кронверкским проливом, набрала скорость и возглавила острова-корабли. Как загремели-застреляли форты крепости, как засиял-засверкал Петропавловский шпиль! Ур-ра! Прорвали блокаду! — Опять простынь порвал! Он со своей блокадой все простыни в больнице порвет! — послышался недовольный женский голос. Глаза мои приоткрылись — я увидел перед собой женщину в белом халате. Врач? — Что с колосками? — закричал я. Женщина склонилась ко мне: — Водицы испить? Колоски? Какие колоски? Ах, про те, колхозные. Гляди — не забыл. Спасли твои колоски, что с ними сделается. Ты бы лучше про своих ребят спросил, на что подбивал их. — Живы? — опять закричал я. — Громче говори, чуть шепчешь. Живы, живы 20 |








