Костёр 1989-05, страница 20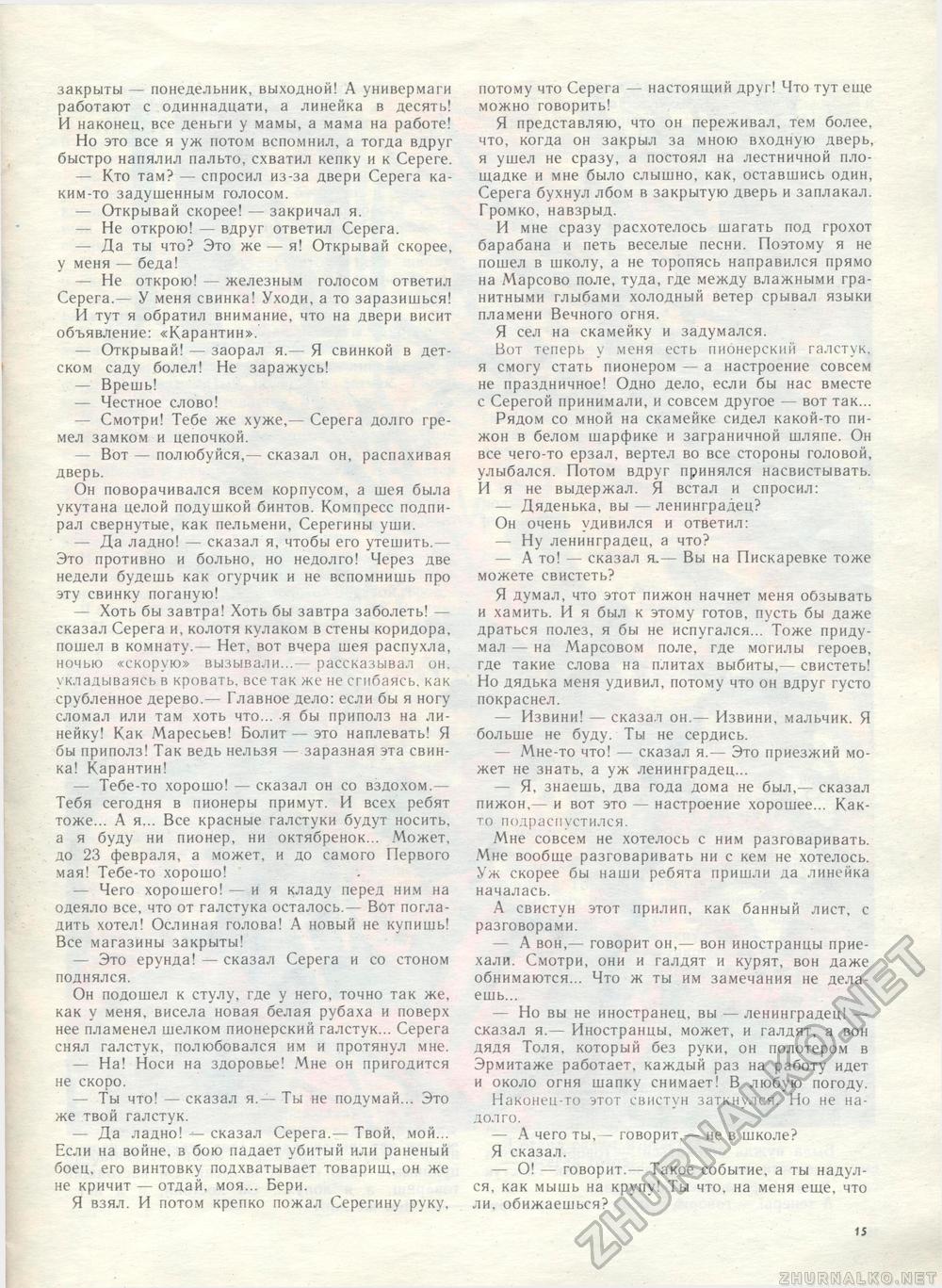
закрыты — понедельник, выходной! А универмаги работают с одиннадцати, а линейка в десять! И наконец, все деньги у мамы, а мама на работе! Но это все я уж потом вспомнил, а тогда вдруг быстро напялил пальто, схватил кепку и к Сереге. — Кто там? — спросил из-за двери Серега каким-то задушенным голосом. — Открывай скорее! — закричал я. — Не открою! — вдруг ответил Серега. — Да ты что? Это же — я! Открывай скорее, у меня — беда! — Не открою! — железным голосом ответил Серега.— У меня свинка! Уходи, а то заразишься! И тут я обратил внимание, что на двери висит объявление: «Карантин». — Открывай! — заорал я.— Я свинкой в детском саду болел! Не заражусь! — Врешь! — Честное слово! — Смотри! Тебе же хуже,— Серега долго гремел замком и цепочкой. — Вот — полюбуйся,— сказал он, распахивая дверь. Он поворачивался всем корпусом, а шея была укутана целой подушкой бинтов. Компресс подпирал свернутые, как пельмени, Серегины уши. — Да ладно! — сказал я, чтобы его утешить.— Это противно и больно, но недолго! Через две недели будешь как огурчик и не вспомнишь про эту свинку поганую! — Хоть бы завтра! Хоть бы завтра заболеть! — сказал Серега и, колотя кулаком в стены коридора, пошел в комнату.— Нет, вот вчера шея распухла, ночью «скорую» вызывали...— рассказывал он, укладываясь в кровать, все так же не сгибаясь, как срубленное дерево.— Главное дело: если бы я ногу сломал или там хоть что... я бы приполз на линейку! Как Маресьев! Болит — это наплевать! Я бы приполз! Так ведь нельзя — заразная эта свинка! Карантин! — Тебе-то хорошо! — сказал он со вздохом.— Тебя сегодня в пионеры примут. И всех ребят тоже... А я... Все красные галстуки будут носить, а я буду ни пионер, ни октябренок... Может, до 23 февраля, а может, и до самого Первого мая! Тебе-то хорошо! — Чего хорошего! — и я кладу перед ним на одеяло все, что от галстука осталось.— Вот погладить хотел! Ослиная голова! А новый не купишь! Все магазины закрыты! — Это ерунда! — сказал Серега и со стоном поднялся. Он подошел к стулу, где у него, точно так же, как у меня, висела новая белая рубаха и поверх нее пламенел шелком пионерский галстук... Серега снял галстук, полюбовался им и протянул мне. — На! Носи на здоровье! Мне он пригодится не скоро. — Ты что! — сказал я.— Ты не подумай... Это же /твой галстук. — Да ладно! сказал Серега.— Твой, мой... Если на войне, в бою падает убитый или раненый боец, его винтовку подхватывает товарищ, он же не кричит — отдай, моя... Бери. Я взял. И потом крепко пожал Серегину руку. потому что Серега — настоящий друг! Что тут еще можно говорить! Я представляю, что он переживал, тем более, что, когда он закрыл за мною входную дверь, я ушел не сразу, а постоял на лестничной площадке и мне было слышно, как, оставшись один, Серега бухнул лбом в закрытую дверь и заплакал. Громко, навзрыд. И мне сразу расхотелось шагать под грохот барабана и петь веселые песни. Поэтому я не пошел в школу, а не торопясь направился прямо на Марсово поле, туда, где между влажными гранитными глыбами холодный ветер срывал языки пламени Вечного огня. Я сел на скамейку и задумался. Вот теперь у меня есть пионерский галстук, я смогу стать пионером — а настроение совсем не праздничное! Одно дело, если бы нас вместе с Серегой принимали, и совсем другое — вот так... Рядом со мной на скамейке сидел какой-то пижон в белом шарфике и заграничной шляпе. Он все чего-то ерзал, вертел во все стороны головой, улыбался. Потом вдруг принялся насвистывать. И я не выдержал. Я встал и спросил: — Дяденька, вы—ленинградец? Он очень удивился и ответил: — Ну ленинградец, а что? — А то! — сказал я.— Вы на Пискаревке тоже можете свистеть? Я думал, что этот пижон начнет меня обзывать и хамить. И я был к этому готов, пусть бы даже драться полез, я бы не испугался... Тоже придумал — на Марсовом поле, где могилы героев, где такие слова на плитах выбиты,— свистеть! Но дядька меня удивил, потому что он вдруг густо покраснел. — Извини! — сказал он.— Извини, мальчик. Я больше не буду. Ты не сердись. — Мне-то что! — сказал я.— Это приезжий может не знать, а уж ленинградец... — Я, знаешь, два года дома не был,— сказал пижон,— и вот это — настроение хорошее... Как-то подраспустился. Мне совсем не хотелось с ним разговаривать. Мне вообще разговаривать ни с кем не хотелось. Уж скорее бы наши ребята пришли да линейка началась. А свистун этот прилип, как банный лист, с разговорами. — А вон,— говорит он,— вон иностранцы приехали. Смотри, они и галдят и курят, вон даже обнимаются... Что ж ты им замечания не делаешь... — Но вы не иностранец, вы — ленинградец! — сказал я.— Иностранцы, может, и галдят, а вон дядя Толя, который без руки, он полотером в Эрмитаже работает, каждый раз на работу идет и около огня шапку снимает! В любую погоду. Наконец-то этот свистун заткнулся. Но не на- v v долго. — А чего ты,— говорит,— не в школе? Я сказал. — О! — говорит.— Такое событие, а ты надулся, как мышь на крупу! Ты что, на меня еще, что ли, обижаешься? 15 |








