Костёр 1990-01, страница 8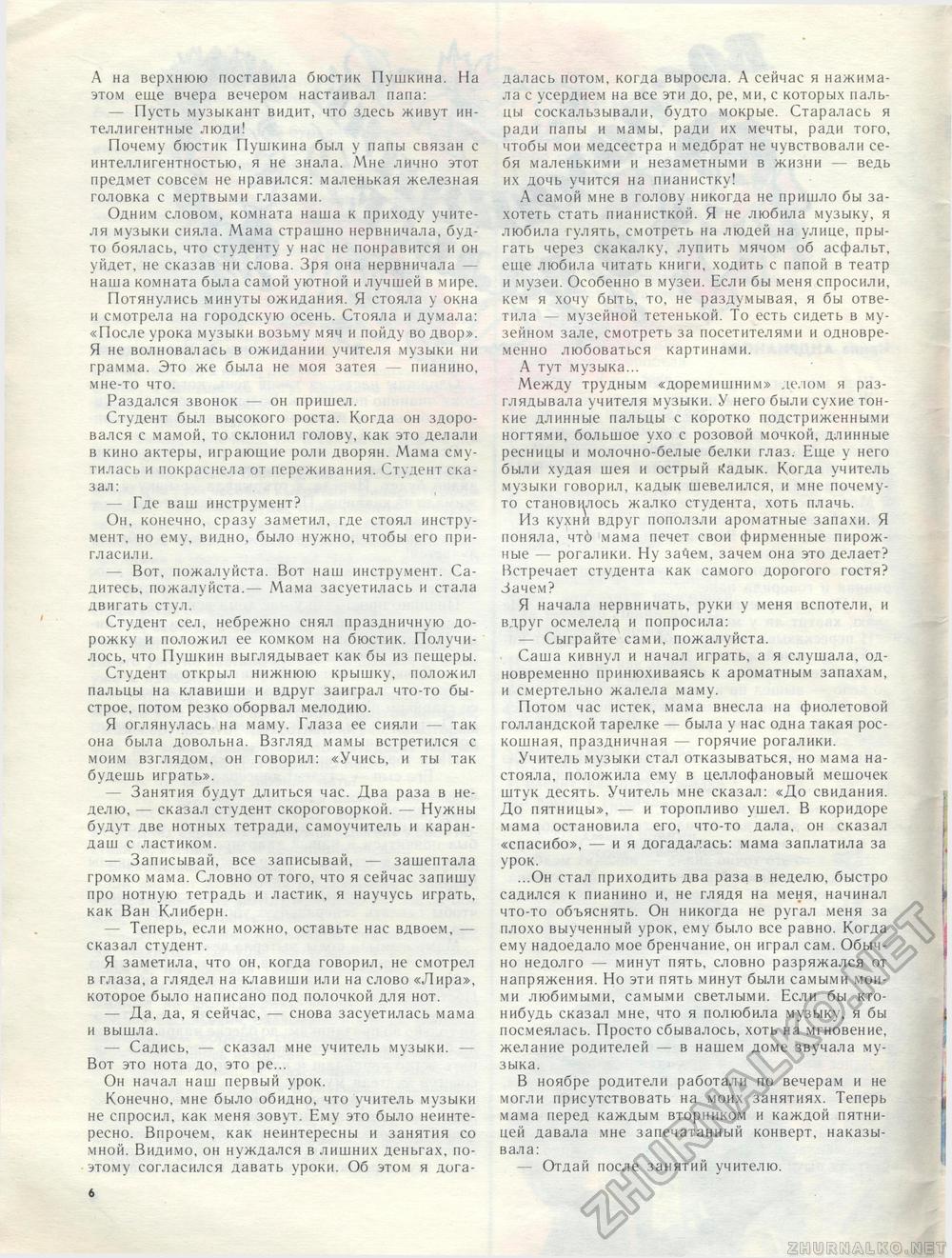
А на верхнюю поставила бюстик Пушкина. На далась потом, когда выросла. А сейчас я нажима- / этом еще вчера вечером настаивал папа: — Пусть музыкант видит, что здесь живут интеллигентные люди! Почему бюстик Пушкина был у папы связан с интеллигентностью, я не знала. Мне лично этот предмет совсем не нравился: маленькая железная головка с мертвыми глазами. Одним словом, комната наша к приходу учителя музыки сияла. Мама страшно нервничала, будто боялась, что студенту у нас не понравится и он уйдет, не сказав ни слова. Зря она нервничала — наша комната была самой уютной и лучшей в мире. Потянулись минуты ожидания. Я стояла у окна и смотрела на городскую осень. Стояла и думала: «После урока музыки возьму мяч и пойду во двор». Я не волновалась в ожидании учителя музыки ни грамма. Это же была не моя затея — пианино, мне-то что. Раздался звонок он пришел. Студент был высокого роста. Когда он здоровался с мамой, то склонил голову, как это делали в кино актеры, играющие роли дворян. Мама смутилась и покраснела от переживания. Студент сказал: t — Где ваш инструмент? Он, конечно, сразу заметил, где стоял инструмент, но ему, видно, было нужно, чтобы его пригласили. — Вот, пожалуйста. Вот наш инструмент. Садитесь, пожалуйста.— Мама засуетилась и стала двигать стул. Студент сел, небрежно снял праздничную дорожку и положил ее комком на бюстик. Получилось, что Пушкин выглядывает как бы из пещеры. Студент открыл нижнюю крышку, положил пальцы на клавиши и вдруг заиграл что-то быстрое, потом резко оборвал мелодию. Я оглянулась на маму. Глаза ее сияли — так она была довольна. Взгляд мамы встретился с моим взглядом, он говорил: «Учись, и ты так будешь играть». — Занятия будут длиться час. Два раза в неделю, — сказал студент скороговоркой. — Нужны будут две нотных тетради, самоучитель и карандаш с ластиком. — Записывай, все записывай, — громко мама. Словно от того, что я сейчас запишу про нотную тетрадь и ластик, я научусь играть, как Ван Клиберн. — Теперь, если можно, оставьте нас вдвоем, — сказал студент. Я заметила, что он, когда говорил, не смотрел в глаза, а глядел на клавиши или на слово «Лира», которое было написано под полочкой для нот. — Да, да, я сейчас, — снова засуетилась мама и вышла. Садись, сказал мне учитель музыки. Вот это нота до, это ре... Он начал наш первый урок. Конечно, мне было обидно, что учитель музыки не спросил, как меня зовут. Ему это было неинтересно. Впрочем, как неинтересны и занятия со мной. Видимо, он нуждался в лишних деньгах, поэтому согласился давать уроки. Об этом я дога- ла с усердием на все эти до, ре, ми, с которых пальцы соскальзывали, будто мокрые. Старалась я ради папы и мамы, ради их мечты, ради того, чтобы мои медсестра и медбрат не чувствовали себя маленькими и незаметными в жизни — ведь их дочь учится на пианистку! А самой мне в голову никогда не пришло бы захотеть стать пианисткой. Я не любила музыку, я любила гулять, смотреть на людей на улице, прыгать через скакалку, лупить мячом об асфальт, еще любила читать книги, ходить с папой в театр и музеи. Особенно в музеи. Если бы меня спросили, кем я хочу быть, то, не раздумывая, я бы ответила — музейной тетенькой. То есть сидеть в му зейном зале, смотреть за посетителями и одновременно любоваться картинами. А тут музыка... Между трудным «доремишним» делом я разглядывала учителя музыки. У него были сухие тонкие длинные пальцы с коротко подстриженными ногтями, большое ухо с розовой мочкой, длинные ресницы и молочно-белые белки глаз. Еще у него были худая шея и острый ^адык. Когда учитель музыки говорил, кадык шевелился, и мне почему-то становилось жалко студента, хоть плачь. Из кухни вдруг поползли ароматные запахи. Я поняла, чтб мама печет свои фирменные пирожные — рогалики. Ну зачем, зачем она это делает? Встречает студента как самого дорогого гостя? Зачем? Я начала нервничать, руки у меня вспотели, и вдруг осмелел^ и попросила: — Сыграйте сами, пожалуйста. Саша кивнул и начал играть, а я слушала, одновременно принюхиваясь к ароматным запахам, и смертельно жалела маму. Потом час истек, мама внесла на фиолетовой голландской тарелке — была у нас одна такая роскошная, праздничная — горячие рогалики. Учитель музыки стал отказываться, но мама настояла, положила ему в целлофановый мешочек штук десять. Учитель мне сказал: «До свидания. До пятницы», — и торопливо ушел. В коридоре мама остановила его, что-то дала, он сказал «спасибо», — и я догадалась: мама заплатила за зашептала урок. ...Он стал приходить два раза в неделю, быстро садился к пианино и, не глядя на меня, начинал что-то объяснять. Он никогда не ругал меня за плохо выученный урок, ему было все равно. Когда ему надоедало мое бренчание, он играл сам. Обычно недолго — минут пять, словно разряжался от напряжения. Но эти пять минут были самыми моими любимыми, самыми светлыми. Если бы кто-нибудь сказал мне, что я полюбила музыку, я бы посмеялась. Просто сбывалось, хоть на мгновение, желание родителей — в нашем доме звучала музыка. В ноябре родители работали по вечерам и не могли присутствовать на моих занятиях. Теперь мама перед каждым вторником и каждой пятницей давала мне запечатанный конверт, наказывала: Отдай после занятий учителю. |








