Костёр 1990-02, страница 6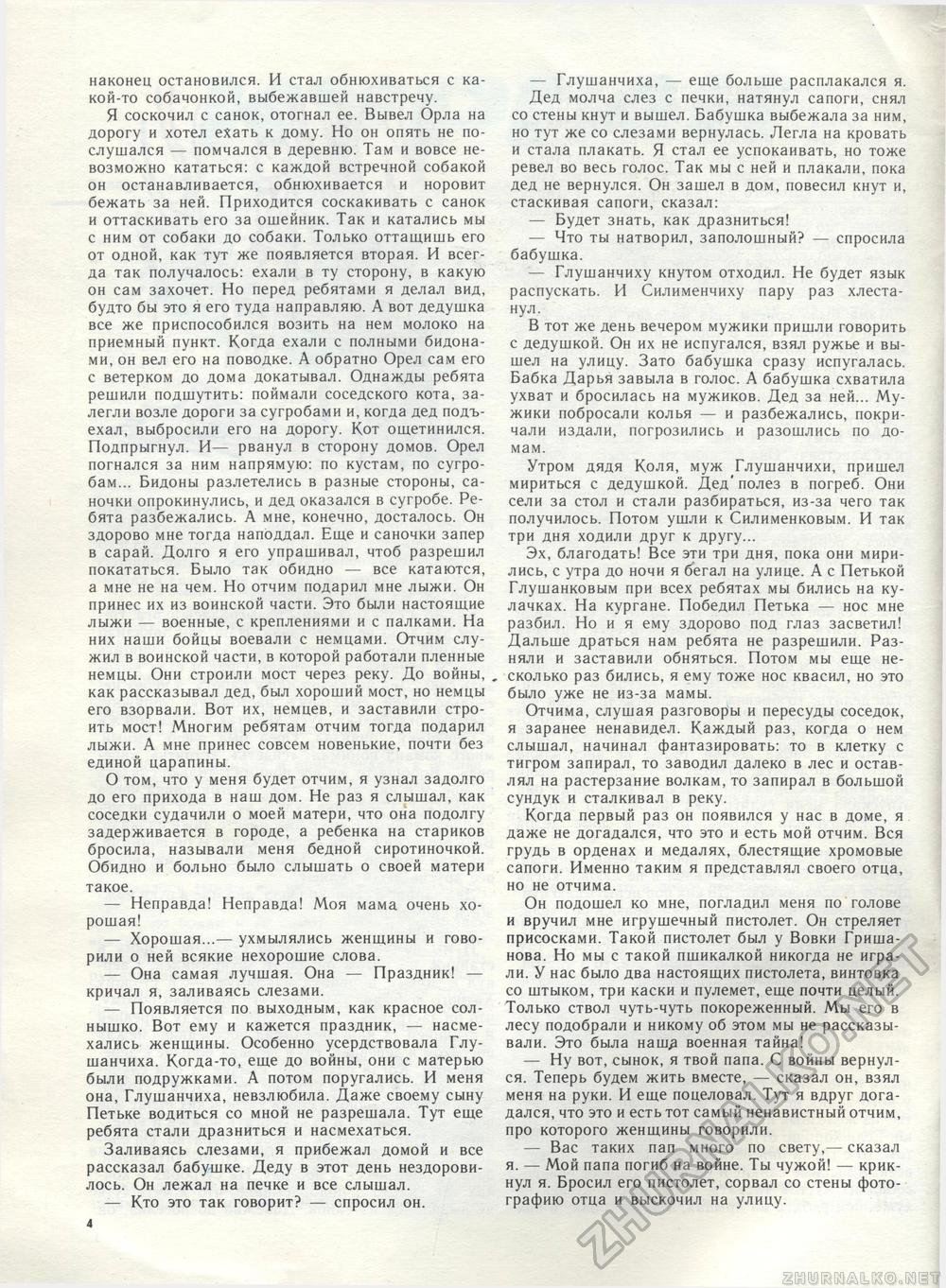
наконец остановился. И стал обнюхиваться с ка-кой-то собачонкой, выбежавшей навстречу. Я соскочил с санок, отогнал ее. Вывел Орла на дорогу и хотел ехать к дому. Но он опять не послушался — помчался в деревню. Там и вовсе невозможно кататься: с каждой встречной собакой он останавливается, обнюхивается и норовит бежать за ней. Приходится соскакивать с санок и оттаскивать его за ошейник. Так и катались мы с ним от собаки до собаки. Только оттащишь его от одной, как тут же появляется вторая. И всегда так получалось: ехали в ту сторону, в какую он сам захочет. Но перед ребятами я делал вид, будто бы это я его туда направляю. А вот дедушка все же приспособился возить на нем молоко на приемный пункт. Когда ехали с полными бидонами, он вел его на поводке. А обратно Орел сам его с ветерком до дома докатывал. Однажды ребята решили подшутить: поймали соседского кота, залегли возле дороги за сугробами и, когда дед подъехал, выбросили его на дорогу. Кот ощетинился. Подпрыгнул. И— рванул в сторону домов. Орел погнался за ним напрямую: по кустам, по сугробам... Бидоны разлетелись в разные стороны, саночки опрокинулись, и дед оказался в сугробе. Ребята разбежались. А мне, конечно, досталось. Он здорово мне тогда наподдал. Еще и саночки запер в сарай. Долго я его упрашивал, чтоб разрешил покататься. Было так обидно — все катаются, а мне не на чем. Но отчим подарил мне лыжи. Он принес их из воинской части. Это были настоящие лыжи — военные, с креплениями и с палками. На них наши бойцы воевали с немцами. Отчим служил в воинской части, в которой работали пленные немцы. Они строили мост через реку. До войны, „ как рассказывал дед, был хороший мост, но немцы его взорвали. Вот их, немцев, и заставили строить мост! Многим ребятам отчим тогда подарил лыжи. А мне принес совсем новенькие, почти без единой царапины. О том, что у меня будет отчим, я узнал задолго до его прихода в наш дом. Не раз я слышал, как соседки судачили о моей матери, что она подолгу задерживается в городе, а ребенка на стариков бросила, называли меня бедной сиротиночкой. Обидно и больно было слышать о своей матери такое. — Неправда! Неправда! Моя мама очень хорошая! — Хорошая...— ухмылялись женщины и говорили о ней всякие нехорошие слова. — Она самая лучшая. Она — Праздник! — кричал я, заливаясь слезами. — Появляется по выходным, как красное солнышко. Вот ему и кажется праздник, — насмехались женщины. Особенно усердствовала Глу-шанчиха. Когда-то, еще до войны, они с матерью были подружками. А потом поругались. И меня она, Глушанчиха, невзлюбила. Даже своему сыну Петьке водиться со мной не разрешала. Тут еще ребята стали дразниться и насмехаться. Заливаясь слезами, я прибежал домой и все рассказал бабушке. Деду в этот день нездоровилось. Он лежал на печке и все слышал. — Кто это так говорит? — спросил он. 4 — Глушанчиха, — еще больше расплакался я. Дед молча слез с печки, натянул сапоги, снял со стены кнут и вышел. Бабушка выбежала за ним, но тут же со слезами вернулась. Легла на кровать и стала плакать. Я стал ее успокаивать, но тоже ревел во весь голос. Так мы с ней и плакали, пока дед не вернулся. Он зашел в дом, повесил кнут и, стаскивая сапоги, сказал: — Будет знать, как дразниться! — Что ты натворил, заполошный? — спросила бабушка. — Глушанчиху кнутом отходил. Не будет язык распускать. И Силименчиху пару раз хлестанул. В тот же день вечером мужики пришли говорить с дедушкой. Он их не испугался, взял ружье и вышел на улицу. Зато бабушка сразу испугалась. Бабка Дарья завыла в голос. А бабушка схватила ухват и бросилась на мужиков. Дед за ней... Мужики побросали колья — и разбежались, покричали издали, погрозились и разошлись по домам. Утром дядя Коля, муж Глушанчихи, пришел мириться с дедушкой. Дед'полез в погреб. Они сели за стол и стали разбираться, из-за чего так получилось. Потом ушли к Силименковым. И так три дня ходили друг к другу... Эх, благодать! Все эти три дня, пока они мирились, с утра до ночи я бегал на улице. А с Петькой Глушанковым при всех ребятах мы бились на кулачках. На кургане. Победил Петька — нос мне разбил. Но и я ему здорово под глаз засветил! Дальше драться нам ребята не разрешили. Разняли и заставили обняться. Потом мы еще несколько раз бились, я ему тоже нос квасил, но это было уже не из-за мамы. Отчима, слушая разговоры и пересуды соседок, я заранее ненавидел. Каждый раз, когда о нем слышал, начинал фантазировать: то в клетку с тигром запирал, то заводил далеко в лес и оставлял на растерзание волкам, то запирал в большой сундук и сталкивал в реку. Когда первый раз он появился у нас в доме, я даже не догадался, что это и есть мой отчим. Вся грудь в орденах и медалях, блестящие хромовые сапоги. Именно таким я представлял своего отца, но не отчима. Он подошел ко мне, погладил меня по голове и вручил мне игрушечный пистолет. Он стреляет присосками. Такой пистолет был у Вовки Гриша-нова. Но мы с такой пшикалкой никогда не играли. У нас было два настоящих пистолета, винтовка со штыком, три каски и пулемет, еще почти целый. Только ствол чуть-чуть покореженный. Мы его в лесу подобрали и никому об этом мы не рассказывали. Это была наш^э военная тайна! — Ну вот, сынок, я твой папа. С войны вернулся. Теперь будем жить вместе, — сказал он, взял меня на руки. И еще поцеловал. Тут я вдруг догадался, что это и есть тот самый ненавистный отчим, про которого женщины говорили. — Вас таких пап много по свету,— сказал я. — Мой папа погиб на войне. Ты чужой! — крикнул я. Бросил его пистолет, сорвал со стены фотографию отца и выскочил на улицу. |








