Костёр 1991-08, страница 12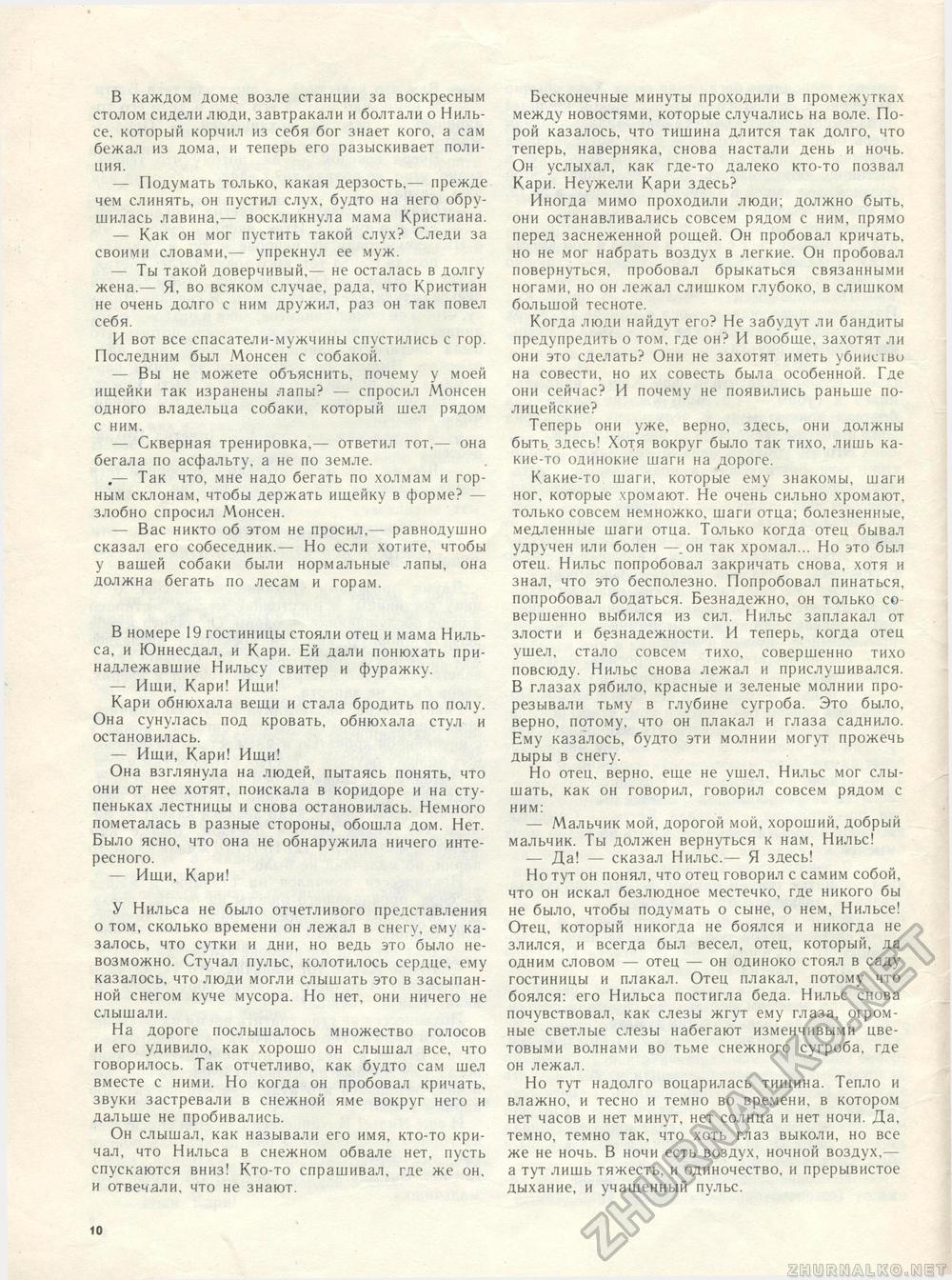
В каждом доме возле станции за воскресным столом сидели люди, завтракали и болтали о Ниль-се, который корчил из себя бог знает кого, а сам бежал из дома, и теперь его разыскивает полиция. — Подумать только, какая дерзость,— прежде чем слинять, он пустил слух, будто на него обрушилась лавина,— воскликнула мама Кристиана. — Как он мог пустить такой слух? Следи за своими словами,— упрекнул ее муж. — Ты такой доверчивый,— не осталась в долгу жена.— Я, во всяком случае, рада, что Кристиан не очень долго с ним дружил, раз он так повел себя. И вот все спасатели-мужчины спустились с гор. Последним был Монсен с собакой. — Вы не можете объяснить, почему у моей ищейки так изранены лапы? — спросил Монсен одного владельца собаки, который шел рядом с ним. — Скверная тренировка,— ответил тот,— она бегала по асфальту, а не по земле. .— Так что, мне надо бегать по холмам и горным склонам, чтобы держать ищейку в форме? — злобно спросил Монсен. — Вас никто об этом не просил,— равнодушно сказал его собеседник.— Но если хотите, чтобы у вашей собаки были нормальные лапы, она должна бегать по лесам и горам. В номере 19 гостиницы стояли отец и мама Нильса, и Юннесдал, и Кари. Ей дали понюхать принадлежавшие Нильсу свитер и фуражку. — Ищи, Кари! Ищи! Кари обнюхала вещи и стала бродить по полу. Она сунулась под кровать, обнюхала стул и остановилась. — Ищи, Кари! Ищи! Она взглянула на людей, пытаясь понять, что они от нее хотят, поискала в коридоре и на ступеньках лестницы и снова остановилась. Немного пометалась в разные стороны, обошла дом. Нет. Было ясно, что она не обнаружила ничего интересного. — Ищи, Кари! У Нильса не было отчетливого представления о том, сколько времени он лежал в снегу, ему казалось, что сутки и дни, но ведь это было невозможно. Стучал пульс, колотилось сердце, ему казалось, что люди могли слышать это в засыпанной снегом куче мусора. Но нет, они ничего не слышали. На дороге послышалось множество голосов и его удивило, как хорошо он слышал все, что говорилось. Так отчетливо, как будто сам шел вместе с ними. Но когда он пробовал кричать, звуки застревали в снежной яме вокруг него и дальше не пробивались. Он слышал, как называли его имя, кто-то кричал, что Нильса в снежном обвале нет, пусть спускаются вниз! Кто-то спрашивал, где же он, и отвечали, что не знают. Бесконечные минуты проходили в промежутках между новостями, которые случались на воле. Порой казалось, что тишина длится так долго, что теперь, наверняка, снова настали день и ночь. Он услыхал, как где-то далеко кто-то позвал Кари. Неужели Кари здесь? Иногда мимо проходили люди; должно быть, они останавливались совсем рядом с ним, прямо перед заснеженной рощей. Он пробовал кричать, но не мог набрать воздух в легкие. Он пробовал повернуться, пробовал брыкаться связанными ногами, но он лежал слишком глубоко, в слишком большой тесноте. Когда люди найдут его? Не забудут ли бандиты предупредить о том, где он? И вообще, захотят ли они это сделать? Они не захотят иметь убийство на совести, но их совесть была особенной. Где они сейчас? И почему не появились раньше полицейские? Теперь они уже, верно, здесь, они должны быть здесь! Хотя вокруг было так тихо, лишь какие-то одинокие шаги на дороге. Какие-то. шаги, которые ему знакомы, шаги ног, которые хромают. Не очень сильно хромают, только совсем немножко, шаги отца; болезненные, медленные шаги отца. Только когда отец бывал удручен или болен он так хромал... Но это был отец. Нильс попробовал закричать снова, хотя и знал, что это бесполезно. Попробовал пинаться, попробовал бодаться. Безнадежно, он только совершенно выбился из сил. Нильс заплакал от злости и безнадежности. И теперь, когда отец ушел, стало совсем тихо, совершенно тихо повсюду. Нильс снова лежал и прислушивался. В глазах рябило, красные и зеленые молнии прорезывали тьму в глубине сугроба. Это было, верно, потому, что он плакал и глаза саднило. Ему казалось, будто эти молнии могут прожечь дыры в снегу. Но отец, верно, еще не ушел, Нильс мог слышать, как он говорил, говорил совсем рядом с ним: Мальчик мой, дорогой мой, хороший, добрый мальчик. Ты должен вернуться к нам, Нильс! — Да! — сказал Нильс.— Я здесь! Но тут он понял, что отец говорил с самим собой, что он искал безлюдное местечко, где никого бы не было, чтобы подумать о сыне, о нем, Нильсе! Отец, который никогда не боялся и никогда не злился, и всегда был весел, отец, который, да — он одиноко стоял в саду одним словом отец гостиницы и плакал. Отец плакал, потому что боялся: его Нильса постигла беда. Нильс снова почувствовал, как слезы жгут ему глаза, огромные светлые слезы набегают изменчивыми цветовыми волнами во тьме снежного сугроба, где он лежал. Но тут надолго воцарилась тишина. Тепло и влажно, и тесно и темно во времени, в котором нет часов и нет минут, нет солнца и нет ночи. Да, темно, темно так, что хоть глаз выколи, но все же не ночь. В ночи есть воздух, ночной воздух,— а тут лишь тяжесть, и одиночество, и прерывистое дыхание, и учащенный пульс. 10 |








